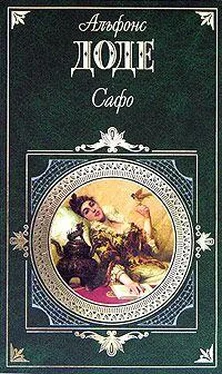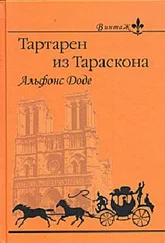Он не поехал. Но в одно из воскресений, днем, он сидел у себя в комнате и работал, как вдруг кто-то два раза тихо постучал к нему в дверь. Он сразу узнал стремительность, с какой она обычно оповещала о своем приходе, и невольно вздрогнул. Боясь, что он велел швейцару никого к нему не пропускать, она, ни о чем не спрашивая, взлетела на площадку его этажа. Неслышно ступая по ковру, он подошел к двери и через щель уловил, как тяжело она дышит.
– Жан! Ты дома?..
О, этот робкий, придушенный голос!..
Затем еще раз, совсем тихо:
– Жан!..
За этим последовал подавленный вздох, шелест просовываемого письма и прощальная ласка воздушного поцелуя.
Спускалась она медленно, со ступеньки на ступеньку, очевидно ожидая, что Жан ее окликнет. Только когда ее шаги затихли, Жан подобрал с полу и распечатал письмо. Сегодня утром дочку Ошкорна похоронили на кладбище при детской больнице. Фанни приехала в Париж вместе с ее отцом и другими шавильцами и не могла устоять против искушения повидаться с Жаном или передать ему это заранее написанное письмо:
«Помнишь, что я тебе писала?.. Если б я жила в Париже, я бы не допустила, чтобы к тебе ходил еще кто-нибудь, кроме меня… Прощай, дружочек! Я еду к нам…»
Когда он мутными от слез глазами читал это письмо, ему припомнилась подобная сцена на улице Аркад, горе отставленного любовника, письмо, просунутое в дверь, и бездушный смех Фанни. Она любит его сильнее, чем он Ирену! Или, быть может, мужчина, принимающий более деятельное участие в повседневной битве жизни, не целиком отдается любви и не может позабыть обо всем, оравнодушеть ко всему, кроме всепоглощающей, единственной страсти?..
Эта душевная мука, эта пытка жалостью становилась менее мучительной лишь в присутствии Ирены. Только под мягкими голубыми лучами ее глаз тоска растаивала, отпускала его. Оставалась страшная душевная усталость: ему хотелось положить голову на плечо Ирене и так сидеть: молча, не шевелясь, под ее защитой.
– Что с вами?.. – спрашивала Ирена. – Разве вы не счастливы?
Да нет, он очень счастлив! Но почему его счастье омрачено столькими печалями, омочено столькими слезами? Иной раз он готов был сказать ей все, как умному и доброму другу. Милый чудак! Он не думал о том, в какое смятение приводят такие признанья юные хрупкие души, какие неизлечимые раны способны они нанести доверчивому чувству. Ах, если б он мог увезти ее, бежать с ней! Это положило бы конец мучениям. Но старик Бушро не желал уступить ни единого часа! «Я стар, я болен… Я больше не увижу мое дитя, не отнимайте же ее у меня раньше срока!..»
Этот великий человек, несмотря на всю его внешнюю суровость, был превосходнейшим человеком. Он был обречен, он сам нашел у себя болезнь сердца, следил за ее развитием, но говорил о ней с поразительным присутствием духа, задыхаясь, читал лекции, тщательно выслушивал больных, гораздо менее тяжелых, чем он. Этот обширный ум страдал одной-единственной слабостью, обличавшей в нем туренского крестьянина: он преклонялся перед титулами, перед знатью. И воспоминание о башенках Кастле, мысль о древности рода д'Арменди сыграли не последнюю роль в его согласии на брак племянницы с Жаном.
Свадьбу предполагалось отпраздновать в усадьбе с тем, чтобы не трогать с места бедную мать, которая каждую неделю диктовала Дивонне или какой-нибудь из «вифаниек» нежное, ласковое письмо своей будущей дочери. И для Госсена это была тихая радость – говорить с Иреной о своих близких, обрести Кастле на Вандомской площади, обрести все свои привязанности вокруг любимой невесты.
Боялся он одного: рядом с ней он выглядит таким старым, таким усталым, а она по-детски радуется тому, что его уже не занимает, радуется радостям совместной жизни, для него уже не существующим. Вот почему, составляя как-то вечером список вещей, которые им надо будет взять с собой в то место, куда он получит назначение, – мебель, обои, – он вдруг призадумался, и перо у него в руке дрогнуло: ему стало страшно, что он возвращается к своему устройству на Амстердамской, к неизбежному возрождению милых утех, которые для него были отравлены, загублены пятью годами жизни с любовницей, а жизнь эта была ни то ни се: не то брак законный, не то незаконный.
– Да, мой дорогой, умер нынче ночью на руках у Росы… Только что отнес его к чучельнику.
Композитор де Поттер, с которым Жан столкнулся при выходе из магазина на улице Бак, вцепился в него, стал изливать ему душу, что так не подходило к бесстрастному, жесткому выражению его лица – выражению лица делового человека, и рассказал о мученической кончине Гаденыша, которого сгубила парижская зима, доконали холода, несмотря на вату, на спиртовку, уже два месяца горевшую под его гнездышком, – словом, уход за ним был, как за недоноском. Тем не менее ему все время было холодно, и вот минувшей ночью, когда все собрались вокруг него, в последний раз по всему его телу – от головы до хвоста – пробежала дрожь, и он скончался как истинный христианин благодаря тому, что мамаша Пилар не пожалела святой воды, чтобы окропить его чешуйчатую кожу, через которую, как сквозь призму, были видны приливы и отливы слабеющих жизненных сил, – мамаша Пилар кропила его и, закатив глаза под лоб, приговаривала: «Прости ему, господи, все его перегреченья!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу