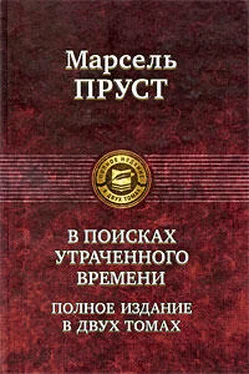На другой день было холодно и ясно: чувствовалась зима (и, действительно, время года было такое позднее, что мы только чудом могли найти в уже опустошенном Булонском Лесу несколько куполов золотистой зелени). Проснувшись, я увидел, точно из окна донсьерской казармы, матовую мглу, ровную и белую, которая весело висела на солнце, густая и сладкая, как патока. Потом солнце спряталось, и мгла еще более сгустилась после полудня. Сумерки настали рано, я переоделся, но время ехать еще не пришло; я решил послать экипаж за г-жой де Стермарья. Сам я не посмел сесть в него, чтобы не заставлять ее ехать со мной, но я вручил кучеру записку, в которой просил позволения зайти за ней. В ожидании я растянулся на кровати, закрыл на мгновение глаза, потом снова открыл. Над занавеской видна была лишь тоненькая каемка света, становившаяся все более тусклой. Мне знаком был этот праздный час, глубокое преддверие удовольствия; темную и сладкую пустоту его я научился познавать в Бальбеке, когда, лежа, как сейчас, один в моей комнате, в то время как все другие обедали, я без сожаления наблюдал угасавший над занавесками день, зная, что вскоре, после краткой, как полярная, ночи, он с еще большим блеском загорится в огнях Ривбеля. Я соскочил с кровати, повязал черный галстук, провел щеткой по волосам, — последние движения, при помощи которых я прихорашивался в Бальбеке, думая не о себе, но о женщинах, которых увижу в Ривбеле, и заранее улыбаясь им в косое зеркало моей комнаты, — движения, оставшиеся по этой причине предвестниками веселья, сплавленного из огней и музыки. Подобно магическим знакам, они его вызывали, больше того — уже осуществляли; благодаря им я располагал столь же достоверным знанием его истинности и с такой же полнотой наслаждался его упоительным и суетным очарованием, как некогда летом в Комбре наслаждался в своей прохладной темной комнате жарой и солнцем, когда до меня доносился стук молотка упаковщика.
Вот почему теперь мне хотелось бы видеть совсем не г-жу де Стермарья. Теперь, когда я был вынужден провести с ней вечер, я предпочел бы, чтобы вечер этот, так как он был последний перед возвращением моих родных, оставался незанятым и чтобы я мог попытаться увидеть ривбельских женщин. В последний раз я вымыл руки и вытирал их в темной столовой, прогуливаясь от удовольствия по всей нашей квартире. Мне показалось, что дверь из столовой открыта в освещенную переднюю, но то, что я принял за светлую щель двери, которая, напротив, была закрыта, являлось лишь белым отражением моего полотенца в зеркале, прислоненном к стене в ожидании, когда его поставят на место к приезду мамы. Я мысленно перебрал все миражи, обнаруженные мной таким образом в нашей квартире, миражи не только оптические, ибо в первые дни я считал, что соседка обзавелась собакой: меня обманывало продолжительное, похожее даже на звуки человеческого голоса тявканье, которым заливалась одна из кухонных труб каждый раз, когда открывали кран. Равным образом дверь на площадку, медленно, закрываясь от сквозняков на лестнице, исполняла отрывки упоительных жалобных фраз, из которых складывается хор пилигримов в заключительной части увертюры к «Тангейзеру». Впрочем, когда я положил полотенце на место, мне довелось вновь услышать этот ослепительный симфонический отрывок, ибо раздался звонок и я побежал в переднюю открыть дверь кучеру, который привез мне ответ. Я думал, что ответом этим будет: «Эта дама внизу», или: «Эта дама вас ждет». Но он держал в руке письмо. Я минутку поколебался, прежде чем узнать содержание письма г-жи де Стермарья, которое, покуда она держала перо в руке, могло бы быть иным, но теперь, оторвавшись от нее, стало непреложным, как судьба, совершало свой путь самостоятельно, и она уже ничего в нем не могла бы изменить. Я попросил кучера спуститься и подождать минуточку, хотя он на чем свет проклинал туман. Когда он ушел, я вскрыл конверт. На карточке «Виконтесса Алиса де Стермарья» приглашенная мной дама писала: «Я глубоко огорчена, одно досадное обстоятельство не позволяет мне пообедать с Вами сегодня вечером на острове в Булонском Лесу. Для меня это было бы праздником. Напишу Вам подробнее из Стермарьи. Сожалею. Привет». Я замер в неподвижности, оглушенный полученным ударом. Карточка и конверт упали к моим ногам, как пыж огнестрельного оружия, когда раздается выстрел. Я подобрал их, принялся анализировать фразы. «Она говорит, что не может со мной обедать на острове в Булонском Лесу. Отсюда можно было бы заключить, что она согласна пообедать со мной в другом месте. Я не буду настолько нескромен, чтобы поехать за ней, но в конце концов это можно было бы понять именно таким образом». И так как уже в течение четырех дней я мысленно водворился на этом острове с г-жой де Стермарья, то мне никак не удавалось от него отрешиться. Мое желание невольно вступало на путь, по которому двигалось уже столько часов, и, несмотря на это письмо, слишком недавнее для того, чтобы взять верх над ним, я инстинктивно все еще готовился ехать, как ученик, провалившийся на экзамене, непременно хочет ответить еще на один вопрос. Наконец я решился пойти сказать Франсуазе, чтобы она рассчиталась с кучером. Я прошел коридор, не найдя ее, потом направился в столовую, и вдруг шаги мои перестали стучать по паркету, как до сих пор, шум их сменился тишиной, которая до осознания ее причины создала во мне ощущение недостатка воздуха и тюремного заключения. То были ковры, которые начали приколачивать к приезду моих родных, — ковры, которые бывают так красивы в радостные утра, когда среди их беспорядочного нагромождения солнце ждет вас, как друг, пришедший за вами, чтобы вместе ехать завтракать за город, и кладет на них отпечаток леса, но которые теперь, напротив, были первой отделкой зимней тюрьмы, откуда я не смогу больше свободно выходить, поскольку мне придется жить и столоваться в семье.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу