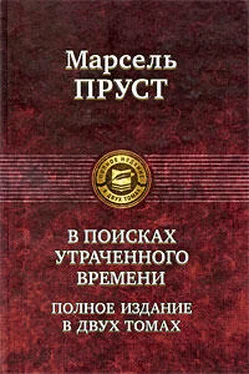— Я думаю, что она уже ничего не видит, — сказал дедушка.
— Ну, это неизвестно, — отвечал доктор.
Когда я прикоснулся к ней губами, руки бабушки задвигались, по всему ее телу пробежала дрожь, — может быть, рефлекторная, а может быть, иным нежным чувствам свойственна повышенная восприимчивость, которая позволяет им различать сквозь покров бессознательного то, что они способны любить, почти вовсе не нуждаясь в деятельности рассудка. Вдруг бабушка привстала, сделав отчаянное усилие, как человек, защищающий свою жизнь. Франсуаза не в силах была вынести это зрелище и разразилась рыданиями. Вспомнив то, что сказал доктор, я хотел вывести ее из комнаты. В это мгновение бабушка открыла глаза. Я бросился к Франсуазе, чтобы скрыть ее плач, пока мои родные будут разговаривать с больной. Шум кислорода замолк, доктор отошел от кровати. Бабушка была мертвая.
Через несколько часов Франсуаза в последний раз могла, не причиняя им боли, причесать эти красивые волосы, которые едва были тронуты сединой и казались до сих пор более молодыми, чем бабушка. Но теперь, напротив, они одни возлагали венец старости на помолодевшее бабушкино лицо, с которого исчезли морщины, складки, одутловатости, растяжения, впадины, в течение стольких лет накладывавшиеся на него страданием. Как в то далекое время, когда родители выбирали ей супруга, черты ее были деликатно вылеплены чистотой и покорностью, щеки сияли целомудренной надеждой, мечтой о счастье и даже невинной веселостью, которые мало-помалу были разрушены годами. Жизнь, уходя, унесла с собой жизненные разочарования. На губах бабушки, казалось, играла улыбка. Подобно средневековому скульптору, смерть простерла ее на траурном ложе в образе молодой девушки.
Визит Альбертины. Перспектива богатого брака для некоторых приятелей Сен-Лу. Остроумие Германтов и принцесса Пармская. Странный визит к г-ну де Шарлюсу. Я все меньше и меньше понимаю его характер. Красивые туфли герцогини.
Хотя было обыкновенное осеннее воскресенье, я только что возродился, жизнь лежала непочатой передо мною, ибо утром, после длинного ряда погожих дней, пал холодный туман, который рассеялся только к полудню. А изменения погоды достаточно, чтобы пересоздать мир в недрах нашего существа. Встарь, когда ветер завывал у меня в камине, я слушал его удары о заслонку в трубу с таким же волнением, как если бы, подобно знаменитым ударам смычка, которыми начинается Пятая симфония, они были неотразимым зовом таинственной судьбы. Всякое изменение вида природы являет нам аналогичное превращение, приспособляя к новому ладу вещей наши гармонически настроенные желания. Туман сразу же по пробуждении превратил меня из центробежного существа, которым мы являемся в погожие дни, в человека сосредоточенного, мечтающего о камельке и о разделенном ложе, в зябкого Адама, ищущего домоседку Еву в этом измененном мире.
Между мягким серым цветом утренней деревни и вкусом чашки шоколада помещал я все своеобразие физической, интеллектуальной и моральной жизни, которую я принес около года назад в Донсьер; отмеченная плешивым продолговатым холмом — всегда присутствовавшим, даже когда он был невидим, — жизнь эта составляла во мне ряд удовольствий, совершенно отличных от всех прочих и не передаваемых друзьям в том смысле, что богатая ткань впечатлений, их оркестровавших, давала им, помимо моего ведома, более выпуклую характеристику, чем факты, которые я бы мог рассказать. С этой точки зрения новый мир, в который утренний туман погрузил меня, был миром уже мне известным (что придавало ему больше истинности) и с некоторых пор позабытым (что возвращало ему всю его свежесть). Я мог рассматривать картины тумана, сбереженные моей памятью, именно «Утро в Донсьере» в первый день, проведенный мной в казарме, или другой раз в соседнем замке, куда Сен-Лу однажды свез меня на сутки: из окна, занавески которого я приподнял на заре, перед тем как снова лечь, в первом случае — кавалерист, во втором (на узенькой полоске между прудом и лесом, остальная часть которого поглощена была мягким туманом, однообразным и текучим) — кучер, чистивший сбрую, появились передо мной, как те редкие, едва различимые глазом, вынужденным приспособляться к таинственной бесформенности полумрака, персонажи, что всплывают на стершейся фреске.
Сегодня я рассматривал эти воспоминания с моей постели, ибо я снова лег в ожидании часа, когда, пользуясь отсутствием моих родных, отправившихся на несколько дней в Комбре, я рассчитывал пойти посмотреть пьеску, которую играли у г-жи де Вильпаризи. По возвращении родных я бы, пожалуй, не решился это сделать; мама с ее щепетильным уважением к памяти бабушки желала, чтобы скорбь о ней выражалась свободно, искренно; она бы мне не запретила этого визита к г-же де Вильпаризи, она бы его не одобрила. Из Комбре, напротив, если бы я попросил у нее совета, она бы не ответила мне печальным: «Делай, как хочешь, ты уже достаточно взрослый, чтобы знать, как тебе следует вести себя», но, укоряя себя за то, что оставила меня одного в Париже, и заключая о моем горе по собственным чувствам, пожелала бы для меня развлечений, от которых сама бы отказалась; она бы убедила себя, что бабушка, заботившаяся прежде всего о моем здоровье и о моем нервном равновесии, мне бы наверное их порекомендовала.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу