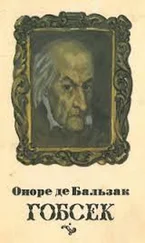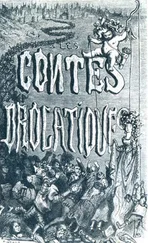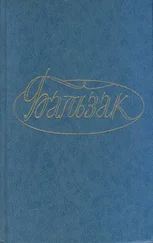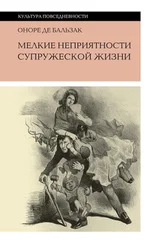— Он исправится, мама, — сказал наконец Жозеф, когда Дерош-старший и Бисиу ушли.
— О! — воскликнула вдова. — Филипп верно сказал: мой отец проклял меня. Я не имею права... Вот они, деньги, — сказала она г-же Декуэн, собрав в одну кучку триста франков Жозефа и двести франков, найденные у Филиппа. — Поди посмотри, не хочет ли твой брат пить, — сказала она Жозефу.
— Ты сдержишь обещание, данное у постели умирающей? — спросила г-жа Декуэн, чувствуя, что разум готов покинуть ее.
— Да, тетя.
— Хорошо. Поклянись мне перевести свои деньги на пожизненную ренту к маленькому Дерошу. Моей ренты вы скоро лишитесь, и, судя по тому, что ты говорила, ты позволишь этому негодяю обобрать тебя до последней нитки.
— Клянусь вам, тетя.
Вдова Декуэн умерла тридцать первого декабря, пять дней спустя после страшного удара, который ей неумышленно нанес старый Дерош. Пятисот франков, оставшихся в семье, едва хватило, чтобы похоронить старуху. После нее осталось только немного столового серебра да кое-какая мебель, стоимость которой г-жа Бридо выплатила ее внуку.
Ограниченная восемьюстами франков пожизненной ренты, которую обеспечил ей Дерош-младший, взяв ее двадцать тысяч на покупку конторы и начав свое дело с одной вывески, то есть с одной конторы без клиентов, — Агата освободила домовладельцу комнату на четвертом этаже и продала всю лишнюю обстановку. Когда через месяц Филипп начал выздоравливать, Агата холодно объяснила ему, что расходы по его болезни поглотили все наличные деньги; отныне ей придется зарабатывать на жизнь, и по этому она самым настоятельным образом побуждает его вновь поступить на военную службу и жить своим трудом.
— Вы могли бы воздержаться от этой проповеди, — сказал Филипп, устремив на мать равнодушный, холодный взгляд. — Я отлично вижу, что ни вы, ни брат больше не любите меня. Теперь я один во всем мире. Что ж, тем лучше!
— Станьте достойным любви, — ответила мать, пораженная в самое сердце, — и мы опять полюбим вас.
— Что за чушь! — закричал он, прерывая ее.
Он взял свою потрепанную шляпу, трость, надвинул шляпу набекрень и, посвистывая, начал спускаться по лестнице.
— Филипп! Куда же ты идешь без гроша? — крикнула вслед ему мать, не в силах удержаться от слез. — Возьми...
Она протянула ему сто франков золотом, завернутые в бумагу. Филипп поднялся обратно и взял деньги.
— Что ж, ты даже не поцелуешь меня? — сказала она, заливаясь слезами.
Он прижал мать к груди, но без того порыва чувства, который только и придает цену поцелую.
— Куда же ты идешь? — спросила его Агата.
— К Флорентине, любовнице Жирудо. Вот где друзья! — грубо ответил он.
Он ушел. Агата вернулась к себе, ноги ее дрожали, в глазах потемнело, сердце сжималось. Она бросилась на колени, моля бога спасти этого выродка-сына, и отреклась от своего тяжкого материнства.
В феврале 1822 года г-жа Бридо поселилась в светелке, занятой до того времени Филиппом, над кухней ее прежней квартиры. Мастерская художника и его спальня находились напротив, по другую сторону лестничной площадки. Увидев, до какой крайности дошла его мать, Жозеф постарался устроить ее поудобнее. После ухода Филиппа он принял участие в устройстве мансарды и придал ей своеобразие, которое так любят художники. Он расстелил там ковер. Постель, убранная просто, но с утонченным вкусом, отличалась монашеской строгостью. Стены, обтянутые перкалином, дешевым, но хорошо подобранным по цвету к заново обитой мебели, придавали жилищу изящество и опрятность. Там, где был выход на площадку лестницы, навесили вторую дверь и закрыли ее портьерой. Окно занавесили шторой, смягчавшей резкость света. Если жизнь несчастной матери была сведена к наиболее простому существованию, какое только могло быть у женщины в Париже, то все же благодаря своему сыну она была устроена лучше, чем кто-либо в ее положении. Чтобы освободить мать от самых докучных обязанностей парижской жизни, Жозеф ходил вместе с ней обедать в домашнюю столовую на улицу Бон, где бывали женщины из общества, депутаты, титулованные господа и где месячный абонемент обходился в девяносто франков.
Занятая теперь только приготовлением завтрака, Агата стала заботиться о сыне, как некогда заботилась о его отце. Несмотря на святую ложь Жозефа, она в конце концов узнала, что ее обед стоит около ста франков в месяц. Испуганная величиной этой суммы и не представляя себе, что ее сын может заработать много денег, «рисуя голых женщин», она при помощи своего духовника аббата Лоро добилась места в шестьсот франков годового жалованья в бюро лотереи, принадлежавшем графине де Бован. вдове одного из шуанских вожаков.
Читать дальше

![Оноре Бальзак - Мелкие неприятности супружеской жизни [сборник]](/books/35173/onore-balzak-melkie-nepriyatnosti-supruzheskoj-zhizn-thumb.webp)