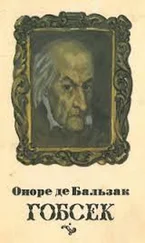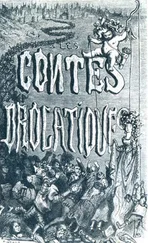В перерывах между танцами скрипач и флажолетист, весьма заинтересованные угощением, вешали инструменты на пуговицы своих порыжелых сюртуков, протягивали руку к столику с напитками, стоявшему тут же, в нише, и подносили итальянцу полный стакан, который он сам не мог взять, — столик был позади его стула. Каждый раз кларнетист благодарил дружеским кивком. Их движения отличались той точностью, которая всегда поражает в слепых из «Приюта трехсот» и внушает обманчивую мысль, что эти люди — зрячие. Я направился к ним, чтобы подслушать их разговор, но, когда я подошел вплотную, они насторожились, вероятно, угадав, что я не рабочий, и умолкли.
— Откуда вы родом, кларнетист?
— Из Венеции, — ответил слепой с легким итальянским акцентом.
— Вы слепы от рождения или ослепли по...
— По несчастной случайности, — живо продолжил он, — треклятая темная вода...
— Венеция — прекрасный город, я всегда мечтал побывать там...
Лицо старика одушевилось, по морщинам пробежал трепет, он заволновался.
— Если я поеду с вами, вы не потеряете времени понапрасну, — молвил он.
— Не говорите ему о Венеции, — вмешался скрипач, — иначе наш дож опять начнет чудить; а он, заметьте, уже вылакал две бутылки, этот князь.
— Ну, живее! Пора начинать, папаша Фальшино! — воскликнул флажолетист.
Все трое взялись за свои инструменты; пока они играли четыре части контрданса, венецианец старался разгадать меня; он почувствовал, что внушает мне живейший интерес. Его лицо утратило выражение застывшей печали, какая-то надежда прояснила его черты, разлилась легким пламенем по его морщинам; он улыбнулся, отер дерзновенный и грозный лоб — словом, он развеселился, как человек, почуявший возможность оседлать своего конька.
— Сколько вам лет? — спросил я.
— Восемьдесят два года.
— Давно вы ослепли?
— Вот уже скоро пятьдесят лет, — ответил старик; по его голосу чувствовалось, что он скорбит не только о потере зрения, но и о каком-то ином великом даре, которого лишился.
— Почему вас называют дожем? — спросил я.
— О, глупая шутка! — ответил он. — Я венецианский патриций и, как любой из них, мог стать дожем.
— Какое же ваше настоящее имя?
— Здесь меня зовут папаша Канé. Мое имя никак не могли иначе занести в акты гражданского состояния; а по-итальянски я называюсь Марко Фачино Кáне [1] Фачино Кане (ок. 1360—1412) — историческое лицо, знаменитый итальянский кондотьер, предводитель наемных войск. Был на службе у миланского герцога Висконти, после смерти которого воевал с его сыновьями.
, князь Варезский.
— Как! Вы потомок знаменитого кондотьера Фачино Кане, обширные владения которого перешли к герцогам миланским?
— E vero [2] Это правда ( ит. ).
, — подтвердил слепой. — В те времена сын кондотьера, опасаясь, что Висконти лишат его жизни, бежал в Венецию и был там вписан в Золотую книгу. Но теперь уже нет ни славного рода Кане, ни родословной книги.
Тут слепой сделал движение, ужаснувшее меня, — так резко оно выражало угасший патриотизм и отвращение к людским делам.
— Но если вы были венецианским сенатором, у вас, наверно, было состояние? Как же случилось, что вы его потеряли?
На этот вопрос он повернул ко мне голову поистине трагическим движением, словно намереваясь пристально взглянуть на меня, и ответил:
— В несчастьях!
Ему уже было не до вина; он отвел полный стакан, который ему подал старый флажолетист, затем он поник головой. Все эти мелочи были не такого свойства, чтобы успокоить мое любопытство. Пока эти три автомата исполняли контрданс, я с теми чувствами, что обуревают двадцатилетнего юношу, неотрывно смотрел на престарелого венецианского аристократа. Я видел Адриатику, Венецию — видел в этих дряхлых чертах ее развалины. Я разгуливал по этому городу, столь милому своим обитателям, я шел от Риальто к Большому каналу, от Словенской набережной к Лидо; я возвращался к собору, столь своеобразно величественному; я любовался окнами Casa d'Oro [3] Золотого дворца ( ит. ).
, каждое из которых изукрашено мрамором, — словом, всеми чудесными творениями, которые ученому особенно дороги тем, что он волен расцвечивать их, как ему вздумается, и что его грезы не опошляются зрелищем обыденной действительности. Я мысленно прослеживал жизненный путь этого потомка величайшего из кондотьеров, силясь распознать следы его несчастий и причины того глубокого физического и морального падения, которые придавали еще большую яркость искоркам величия и благородства, вспыхнувшим в нем теперь. Вероятно, наши мысли совпали: ведь слепота, думается мне, не давая вниманию растрачиваться на предметы внешнего мира, тем самым значительно ускоряет духовное общение.
Читать дальше