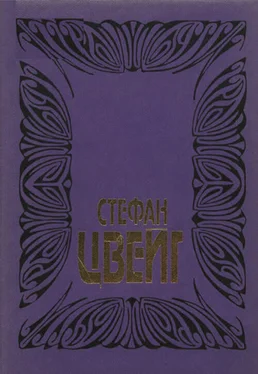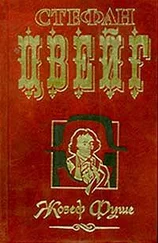Каждый дом обыскивается от погреба до чердака в поисках притаившихся людей и спрятанных драгоценностей; везде царит террор двух — Фуше и Колло, незримых и недоступных, прячущихся в доме, оберегаемом стражей. Лучшие замки уже сметены, тюрьмы, хотя и наполняющиеся заново, почти пусты, магазины очищены, и поля Бротто пропитались кровью тысяч казненных; в конце концов несколько граждан решаются (пусть это будет им стоить жизни!) отправиться в Париж и подать Конвенту прошение о сохранении оставшейся части города. Конечно, текст этого прошения очень осторожен, даже раболепен; они трусливо начинают с восхваления достойного Герострата декрета, «словно продиктованного гением римского сената». В дальнейшем они просят о «пощаде для искренне раскаявшихся, для заблудших, о пощаде — мы осмеливаемся так выразиться — для несправедливо осужденных».
Но консулы своевременно узнали о тайной жалобе, и Колло д’Эрбуа, самый красноречивый из них, летит курьерской почтой, чтобы своевременно отпарировать удар. На следующий день у него хватает смелости в Конвенте и среди якобинцев восхвалять как особую «гуманность» массовые казни, вместо того чтобы оправдывать их. «Мы хотели, — говорит он, — освободить человечество от ужасного зрелища слишком быстро сменяющих друг друга казней, поэтому комиссары решили уничтожить в один день осужденных и предателей; это желание вызвано подлинной чувствительностью (véritable sensibilité)». И у якобинцев он еще пламеннее, чем в Конвенте, восторгается этой «гуманной» системой: «Да, мы уничтожили двести осужденных одним залпом, и нас упрекают за это. Разве не понятно само собой, что это было актом гуманности! Когда гильотинируют двадцать человек, то осужденные переживают казнь двадцать раз, в то время как таким путем двадцать предателей погибают одновременно». И действительно, эти избитые фразы, поспешно выуженные из кровавой чернильницы революционного жаргона, производят впечатление: Конвент и якобинцы одобряют объяснения Колло и этим самым дают проконсулам благословение на дальнейшее истребление. В тот же день Париж чествует перенос праха Шалье в Пантеон, — честь, оказанная до сих пор только Жан-Жаку Руссо и Марату, — и его возлюбленной так же, как и возлюбленной Марата, назначают пенсию. Таким образом, этот мученик публично объявлен национальным святым, и все насилия Фуше и Колло одобрены как справедливая месть.
И все же: некоторая неуверенность овладела обоими деятелями, ибо опасная ситуация в Конвенте, колебание чашек весов между Дантоном и Робеспьером, между умеренностью и террором, требует удвоенной осторожности. И вот они решают поделить роли: Колло д’Эрбуа остается в Париже, чтобы следить за настроениями Комитета и Конвента, чтобы заранее со своей напористой ораторской страстностью разгромить всякое возможное нападение, продолжение же убийств предоставляется «энергии» Фуше. Важно установить, что в то время Жозеф Фуше был неограниченным самодержцем, ибо впоследствии ловким приемом он пытается приписать все насилия своему более правдивому коллеге; но факты показывают, что и в то время, когда он повелевал единолично, коса смерти бушевала не менее убийственно. Расстреливают пятьдесят четыре, шестьдесят, сто человек в день; и в отсутствии Колло, как и прежде, рушатся стены, отбираются дома и опустошаются казнями тюрьмы, и все еще Жозеф Фуше старается перекричать свои собственные деяния восторженными кровавыми словами: «Приговоры этого суда внушают преступникам страх, но они успокаивают и утешают народ, внемлющий им и их одобряющий. Не правы те, кто предполагают, что мы хоть раз оказали кому-нибудь честь помилования: мы неповинны в этом!»
Но внезапно — что же произошло? — Фуше меняет тон. Своим тонким чутьем он издали уловил, что ветер в Конвенте изменил направление, ибо с некоторых пор его резкие смертоносные фанфары не дают ясного отзвука. Его якобинские друзья, его атеистические товарищи по убеждениям, Эбер, Шомет, Ронсен, вдруг умолкли, — умолкли навсегда, — ибо беспощадная рука Робеспьера неожиданно схватила их за горло. Ловко балансируя между слишком бурными и слишком благосклонными и прокладывая себе дорогу то вправо, то влево, этот добронравный тигр внезапно накинулся из мрака на ультрарадикалов. Он настоял, чтобы Карье, который так же радикально топил нантцев, как Фуше расстреливал лионцев, был вызван в Конвент для личного отчета; он через верного своего слугу Сен-Жюста отправил в Страсбурге на гильотину буйного Евлогия Шнейдера; он публично заклеймил, назвав нелепостью, атеистические народные праздники, устроенные Фуше в провинции и в Лионе, и отменил их в Париже. Как всегда, робко и послушно следуют его указаниям встревоженные депутаты.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу