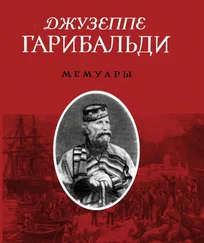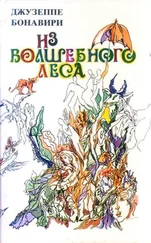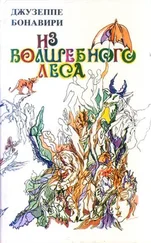Он переждал с минуту, пока молодые люди не удалились, а затем и сам прошел в зал, где был буфет. В глубине стоял длинный узкий стол, освещенный знаменитыми двенадцатью канделябрами из позолоченного серебра, которые были подарены деду Дьего испанским двором по окончании его посольства в Мадриде; на высоких пьедесталах из сверкающего металла возвышались, чередуясь, шесть фигур атлетов и шесть женских фигур, которые держали над головами ствол из позолоченного серебра, вершину которого украшали языки двенадцати зажженных свечей. Искусный ювелир сумел тонко сочетать спокойную легкость юношей с изящной напряженностью девушек, удерживавших непомерную для них тяжесть двенадцати превосходных массивнейших канделябров.
«Кто знает, сколько сальмов земли можно было бы, за них приобрести», — сказал бы несчастный Седара.
Дон Фабрицио вспомнил, как однажды Дьего показал ему футляры для каждого из канделябров — покрышки из зеленого сафьяна, по краям которых красовались тисненные золотом тройной щит Понтелеоне и витые инициалы дарителей.
Под канделябрами, под горкой с пятью уступами, откуда к потолку вздымались пирамиды сластей, до которых никогда не доходил черед, простиралось монотонное изобилие «чайных столиков» большого бала — виднелись кораллового цвета омары, сваренные живьем; мягкое и вязкое «шофруа» из телятины; огромные стального цвета рыбины под легкими соусами; индейки, которых позолотил огонь; розовые жирные паштеты из печенки под желатиновой броней; очищенные от костей бекасы над холмами ароматных гренок, декорированных перемолотыми потрохами; золотистые желе и с десяток других столь же манящих и разукрашенных деликатесов. По краям стола возвышались две монументальные суповые миски из серебра с прозрачным бульоном цвета жженой смолы. Повара больших кухонь замка, должно быть, в поте лица трудились с прошлой ночи.
«Сколько добра! Донна Маргерита умеет хорошо принять. Но для всего этого нужен не мой желудок».
Он пренебрег и столом с напитками, сверкавшим хрусталем и серебром, и сразу направился к буфету со сладким. Огромные бабы — под цвет рыжей конской масти, — заснеженные «монбланы» из взбитых сливок; пирожные «бонье дофин», белые от миндаля и зеленые от фисташек; горки шоколадных «профитролей», коричневых и жирных, как навоз в долине Катаньи, который, в сущности, их породил, предоставив затем пройти через длинный ряд превращений; темные «парфе», от которых, когда их отделяли лопаточкой, с хрустом отваливались слои; здесь же краснели цукаты из вишен, желтели кисловатые штемпели ананасов; обращали на себя внимание «триумф чревоугодия» с темно-зелеными молотыми фисташками я бесстыжее «пирожное девственницы».
Дон Фабрицио попросил положить себе именно это пирожное и теперь держал перед собой на тарелке кощунственное изображение святой Агаты, выставлявшей напоказ свою упругую грудь.
«Странно, что — инквизиция не додумалась запретить эти сладости, когда могла это сделать! Триумф чревоугодия! Чревоугодие — смертельный грех! Соски святой Агаты! И этим торгуют монастыри, это пожирают на праздниках. Ну и ну!»
Дон Фабрицио в поисках места бродил по залу, где пахло ванилью, вином, пудрой.
Танкреди, увидев его, хлопнул рукой но стулу и указал на свободное место; рядом с ним Анджелика пыталась в серебряном блюде разглядеть свою прическу.
Дон Фабрицио, улыбаясь, покачал головой в знак отказа и продолжал свои поиски. За одним из столиков раздавался самодовольный голос Паллавичино.
— Самая волнующая минута за всю мою жизнь…
Рядом с ним одно место было свободно. До чего же он назойлив. В конце концов, не предпочесть ли пусть, деланную, но ободряющую сердечность Анджелики и сухое острословие Танкреди? Нет, лучше скучать самому, чем нагонять скуку на других.
Он извинился, сел рядом с полковником, который встал при его приближении, чем снискал некоторую симпатию леопарда.
Дегустируя утонченную смесь бланманже, фисташек и корицы, из которой состояло выбранное им пирожное, дон Фабрицио беседовал с Паллавичине и убеждался, что тот, если не считать подслащенных фраз, вероятно предназначенных для дам, вовсе не дурак. Он тоже «синьор»: основательный скептицизм его класса, в обычное время задушенный безжалостным пламенем красного воротника берсальерского мундира, снова выставлял наружу кончик носа, когда он попадал в среду, близкую ему по рождению и далекую от неизбежной риторики казарм и поклонниц.
Читать дальше
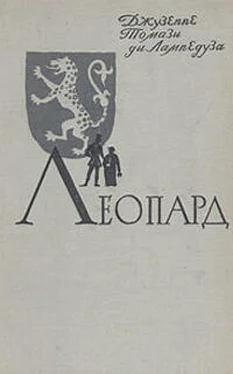
![Джузеппе ди Лампедуза - Леопард. Новеллы [сборник]](/books/35174/dzhuzeppe-di-lampeduza-leopard-novelly-91-sborni-thumb.webp)