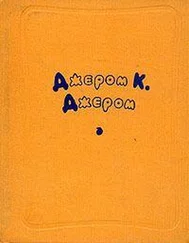Много позже, когда толпа забыла о нем, он тайком прокрался в сад. Он сел посреди развалин своих надежд и пытался понять, почему его постигло фиаско; все еще недоумевая, он достал из кармана спичечный коробок, зажег спичку и поднес ее к опаленному концу ракеты, которую четыре часа тому назад он тщетно пытался пустить. В одно мгновение она затлела, затем со свистом взвилась к небу и рассыпалась сотней маленьких огоньков. Он пробовал одну ракету за другой, — все они прекрасно действовали. Он снова поджег панораму. Все ее части, за исключением капитана и одной мачты, постепенно возникали из ночного мрака, и наконец в пламенном великолепии предстала вся картина. Искры упали на сваленные в кучу римские свечи, колеса и ракеты, которые еще недавно решительно отказывались гореть и были отброшены как негодные. Теперь же, покрытые ночным инеем, они внезапно пустились гореть, напоминая грандиозное извержение вулкана. А перед этим величественным зрелищем стоял он, и единственным утешением было ему рукопожатие матери.
В то время все происшедшее было для него таинственной загадкой, но впоследствии, лучше узнав жизнь, он понял, что это было лишь одним из проявлений необъяснимого, но постоянного закона, управляющего всеми делами людей, — на глазах у толпы твой фейерверк не вспыхнет.
Блестящие реплики приходят нам в голову, когда за нами уже закрылась дверь и мы в одиночестве идем по улице, — или, как говорят французы, спускаемся по лестнице. Наша застольная речь, звучавшая столь значительно, когда мы репетировали ее перед зеркалом, оказывается совершенно бездарной при звоне бокалов. Бурный поток слов, в котором мы готовились излить перед нею всю свою страсть, оборачивается бессвязным лепетом, вызывая у нее только смех, — признаться, вполне извинительный.
Я хотел бы, благосклонный читатель, чтобы ты познакомился с теми рассказами, которые я намеревался написать. Ты, конечно, судишь обо мне по тому, что я написал, — хотя бы, например, по этой книжке; но это несправедливо. Я хотел бы, чтобы ты судил обо мне именно по тем рассказам, которые я не написал, но собираюсь когда-нибудь написать. Они так прекрасны; ты сам увидишь; читая их, ты будешь смеяться и плакать вместе со мной.
Они являются ко мне без приглашения, они требуют, чтобы я написал их, но, едва я берусь за перо, они исчезают. Они как будто боятся гласности, как будто говорят мне: «Только ты один будешь нас читать, но ты не должен писать нас; мы слишком неподдельны, слишком правдивы. Мы — как мысли, которые ты не умеешь выразить словами. Может быть, попозже, когда ты лучше узнаешь жизнь, ты напишешь нас».
Если бы я задумал критический очерк о самом себе, то почти наравне со своими ненаписанными рассказами я поставил бы рассказы, начатые мною, но так и не завершенные, сам не знаю почему. Это хорошие рассказы, по крайней мере большинство из них; гораздо лучше тех, что закончены. Может быть, в другой раз, если захочешь я расскажу тебе начало одного или двух, и ты сам сможешь о них судить. Хотя я всегда считал себя человеком практичным и здравомыслящим, но, странное дело, среди этих мертворождённых детей моего ума, как я замечаю, роясь в шкафу, где, покоятся их тощие останки, — много рассказов о призраках. Мне кажется, всем нам хочется верить в призраки. Ведь так мир становится куда интересней для нас, наследников всех веков.
Год за годом наука, вооружившись метлой и тряпкой, срывает изъеденные молью гобелены, взламывает двери запертых комнат, впускает свет на потайные лестницы, очищает подземелья, исследует скрытые ходы — и всюду находит только пыль. Мир — этот старый замок с гулкими сводами, такой таинственный для нас в детстве, — постепенно утрачивает свое очарование. Король уже больше не спит в горной пещере. Люди проложили туннель через его каменную опочивальню. Мы растрепали ему бороду своей киркой. Мы прогнали богов с Олимпа. В рощах, залитых лунным светом, путники уже не ожидают, со страхом или надеждой, увидеть лик Афродиты, сияющий смертоносной прелестью. Не молот Донара рождает эхо среди скалистых вершин — эта грохочет поезд с экскурсантами. Мы очистили леса от фей. Мы выцедили нимф из моря. Даже призраки покидают нас, разогнанные научным обществом психологов.
Впрочем, о призраках, пожалуй, нечего жалеть. Ведь эти старые тупицы только и делали, что звякали своими ржавыми цепями, стонали и вздыхали. Пусть уходят.
А между тем как интересны были бы они, если бы только захотели. Старый джентльмен в кольчуге, живший еще при короле Иоанне, возвращался однажды верхом домой и был, как рассказывают, заколот ножом в спину на опушке того самого леса, который я вижу сейчас из окна; тело несчастного джентльмена было брошено в ров с водою, по сей день называемый Торовой могилой. Сейчас вода во рву высохла, и на его крутых склонах буйно разрослись желтые баранчики; но в те времена, когда стоячая вода в нем достигала двадцати футов глубины, это было, без сомнения, довольно мрачное место. Зачем является он ночью на лесных тропинках, так что при виде его дети, как говорят, безумеют от ужаса, а у крестьянских парней и девушек, возвращающихся домой с танцев, бледнеют лица и смех замирает на губах? Почему вместо этого не приходит он сюда поговорить со мною? Я бы его радушно встретил, предложил бы ему свое кресло, будь он только веселым и общительным. Сколько превосходных историй мог бы он мне поведать! Он участвовал в первом крестовом походе, слышал зычный голос Петра [4] Петр-отшельник (1050—1115) — проповедник, один из вдохновителей и участников первого крестового похода.
, видел лицом к лицу великого Годфрида Бульонского и, быть может, стоял среди баронов при Раннимиде. Поболтать вечерок с таким призраком было бы любопытнее, чем прочесть целую библиотеку исторических романов. Как он провел свои посмертные восемьсот лет? Где побывал? Что видел? Быть может, он посетил Марс? Беседовал с неведомыми существами, которые, возможно, живут в огненной массе Юпитера? Что он узнал из великой тайны? Постиг ли он истину? Или же, подобно мне, он и теперь только путник, стремящийся к неведомому?
Читать дальше