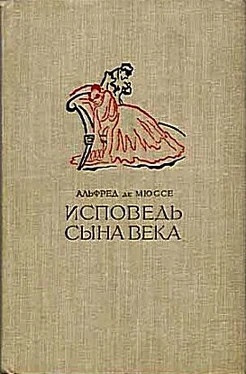Я очень спокойно вернулся домой, ничего не ощущая, ничего не чувствуя и словно лишившись способности мыслить. Тотчас раздевшись, я лег в постель, но едва я положил голову на подушку, как дух мщения овладел мною с такой силой, что я вдруг выпрямился и прислонился к стене, словно все мышцы моего тела сразу одеревенели. Я с криком вскочил с постели, простирая руки, не в состоянии ступать иначе как только на пятки: нервная судорога сводила мне пальцы ног. Так я провел около часа, совершенно обезумевший, окоченелый, как скелет. Это был первый приступ гнева, испытанный мною.
Человек, которого я застиг врасплох подле моей возлюбленной, был один из самых близких моих друзей. На другой день я пошел к нему в сопровождении молодого адвоката по фамилии Деженэ; мы взяли с собой пистолеты, пригласили второго секунданта и отправились в Венсенский лес. Всю дорогу я избегал разговаривать с моим противником и даже близко подходить к нему: я старался устоять против желания ударить или оскорбить его — такого рода неистовые поступки всегда отвратительны и бесполезны, поскольку закон допускает дуэль. Но я не мог отвести от него пристального взгляда. Это был один из друзей моего детства, и в продолжение многих лет мы постоянно оказывали друг другу всевозможные услуги. Он прекрасно знал, как я люблю мою возлюбленную, и не раз давал мне ясно понять, что такого рода узы священны для друга, что, даже если бы он любил ту же самую женщину, что я, он был бы неспособен вытеснить меня и занять мое место. Словом, я питал к нему безграничное доверие и, пожалуй, ни одному человеку никогда не пожимал руку более сердечно, чем ему.
С жадным любопытством смотрел я на этого человека, который, бывало, рассуждал при мне о дружбе, как герой древности, а вчера ласкал при мне мою возлюбленную. Впервые в жизни я видел чудовище; я окидывал его с ног до головы блуждающим взглядом, желая рассмотреть хорошенько. Мне казалось, что я вижу его впервые, — а ведь я знал его с десятилетнего возраста и жил с ним изо дня в день в самой тесной, самой искренней дружбе. Я воспользуюсь здесь одним сравнением.
Есть известная всем испанская пьеса, в которой каменная статуя, посланная небесным правосудием, приходит ужинать к распутнику. Распутник сохраняет внешнее спокойствие и старается казаться невозмутимым, но статуя требует, чтобы он подал ей руку, и лишь только этот человек подает ей руку, его пронизывает смертельный холод, он падает и бьется в судорогах.
И вот всякий раз, когда мне случается долго питать полное доверие либо к другу, либо к любовнице и вдруг обнаружить, что я обманут, я не могу иначе передать то действие, какое производит на меня это открытие, как только сравнив его с рукопожатием статуи. Да, я поистине ощутил прикосновение мрамора, смертельный холод действительности оледенил меня своим поцелуем, — то было прикосновение каменного человека. Увы, ужасный гость не раз стучался ко мне в дверь, не раз мы ужинали вместе.
Между тем, покончив со всеми приготовлениями, мы с моим противником стали на места и начали медленно сходиться. Он выстрелил первый и ранил меня в правую руку. Я тотчас переложил пистолет в левую, но уже не мог поднять его, силы мне изменили, и я упал на одно колено.
Сильно побледнев, с тревогою в лице, враг мой поспешно кинулся вперед. Мои секунданты, видя, что я ранен, подбежали ко мне одновременно с ним, но он отстранил их и взял меня за раненую руку. Зубы у него были крепко стиснуты, и он не мог говорить; я видел, что он в смятении. Он терзался самой ужасной мукой, какую только можно испытать. «Иди прочь! — крикнул я ему. — Иди вытри свои руки о простыни госпожи ***». Он задыхался, и я тоже.
Меня посадили в фиакр, где нас поджидал врач. Рана оказалась неопасной — пуля не задела кости, но я был в таком возбужденном состоянии, что невозможно было тотчас же сделать мне перевязку. Когда фиакр тронулся, я увидел у дверцы дрожащую руку, — то мой противник еще раз подошел ко мне. В ответ я только покачал головой. Я был в таком бешенстве, что не смог бы пересилить себя и простить его, хотя и сознавал, что раскаяние его было искренним.
Когда я приехал домой, из раны обильно пошла кровь, и это принесло мне большое облегчение: слабость заставила меня забыть гнев, причинявший мне больше страданий, чем рана. Я с наслаждением лег в постель, и, мне кажется, никогда я не пил ничего более приятного, чем первый поданный мне стакан воды.
После того как я слег, у меня открылась лихорадка. Вот когда слезы полились у меня из глаз. Мне казалось непостижимым не то, что моя любовница разлюбила меня, а то, что она меня обманула. Я не понимал, каким образом женщина, не вынуждаемая ни долгом, ни корыстью, может лгать мужчине, если она полюбила другого. Двадцать раз в день я спрашивал Деженэ, как это возможно. «Если бы я был ее мужем, — говорил я, — или платил бы ей, мне это было бы понятно. Но почему, если она меня больше не любит, не сказать мне об этом? Зачем меня обманывать?» Я не понимал, что в любви возможно лгать, я был тогда ребенком, и признаюсь, что и сейчас все еще не понимаю этого. Всякий раз как я влюблялся в какую-нибудь женщину, я говорил ей это, и всякий раз как я охладевал к какой-нибудь женщине, я говорил ей это с той же искренностью, ибо я всегда полагал, что в такого рода вещах наша воля бессильна, а преступна только ложь.
Читать дальше