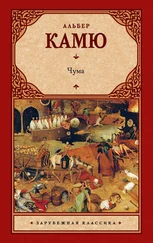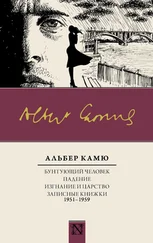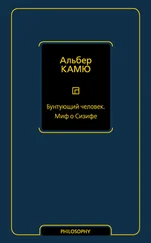Он вернулся к матери. Она стояла прямая как струна, без кровинки в лице.
— Сядь, — Жак подвел ее к стулу, возле стола. Сам сел рядом и взял ее за руки.
— Второй раз за неделю, — сказала она. — Страшно выходить из дому.
— Ничего, — сказал Жак, — это скоро кончится.
— Да, — ответила она.
Она смотрела на него с какой-то неуверенностью, словно колебалась между верой в его ум и своим собственным убеждением, что вся жизнь состоит из страдания, перед которым люди бессильны, и можно только терпеть.
— Понимаешь, — продолжала она, — я ведь уже старая. Я не могу убежать.
Кровь постепенно вновь приливала к ее щекам. Вдали раздавались короткие, настойчивые гудки «Скорой помощи». Но мать их не слышала. Она глубоко вздохнула, немного успокоилась и улыбнулась сыну своей красивой мужественной улыбкой. Как и вся ее семья, она выросла среди опасностей, страх мог леденить ей душу, но она сносила его, как и все остальное. Но он не мог вынести ее внезапно застывшего, как предсмертная маска, лица. «Поедем со мной во Францию», — сказал он, но она с грустной решимостью покачала головой: «О, нет! Там холодно. Я уже слишком стара. Лучше я останусь тут».
— Я люблю, когда ты приезжаешь, — сказала мать. — Но приходи вечером пораньше, а то мне одной так тоскливо. Вечером особенно, а зимой темнеет рано. Если бы я хоть умела читать. Но я и вязать при электричестве не могу, глаза болят. Когда Этьена нет дома, я ложусь и жду, когда пора будет ужинать. Время так медленно тянется. Если бы девочки были со мной, я могла бы с ними поболтать. Но они приходят ненадолго и уходят. Я старая. Может быть, от меня плохо пахнет. И вот так, совсем одна…
Она говорила на одном дыхании, короткими простыми фразами, без пауз, словно давая выход мысли, которую до этой минуты не облекала в слова. Исчерпав мысль, она умолкла, опять плотно сомкнула губы и устремила мягкий безучастный взгляд на горячий свет, пробивавшийся сквозь закрытые ставни столовой; она сидела все на том же месте, на том же неудобном стуле, а сын ее, как в былые времена, кружил вокруг обеденного стола [51] (a) Отношения с братом Анри, драки.
.
Она смотрит, как он опять кружит вокруг стола [52] (b) Что в доме ели: жаркое из потрохов, рагу из трески, нут и т. п.
.
— Там красиво, в Сольферино.
— Да, там очень чисто. Но все, наверно, изменилось с тех пор, как ты там жила.
— Да, все меняется.
— Доктор передает тебе привет. Ты помнишь его?
— Нет, это было так давно.
— Никто там не помнит папу.
— Мы там жили совсем недолго. И потом, он мало говорил.
— Мама!
Она посмотрела на него нежным рассеянным взглядом, без улыбки.
— Мне казалось, вы с папой никогда не жили вместе в Алжире.
— Нет, нет.
— Ты меня поняла?
Она не поняла, он угадал это по ее слегка испуганному, извиняющемуся виду и повторил вопрос, четко выговаривая каждое слово:
— Вы никогда не жили вместе в Алжире?
— Нет, — ответила она.
— А когда же папа ходил смотреть на казнь Пирета?
Он провел по горлу ребром ладони, чтобы она поняла. Мать быстро ответила:
— Да, да, он встал в три часа, чтобы попасть в тюрьму Барбароссы.
— Значит, вы жили в это время в Алжире?
— Да.
— Когда это было?
— Не знаю. Он работал у Рикома.
— До того, как вы уехали в Сольферино?
— Да.
Она говорила «да», но, возможно, все было и не так, ничего нельзя было узнать точно, пробиваясь в прошлое сквозь ее затуманенную память. Память у бедняков вообще не так богата, как у людей состоятельных, у них меньше вех в пространстве, поскольку они редко покидают места, где живут, меньше вех во времени, так как жизнь у них течет серо и однообразно. Существует, конечно, память сердца, которая считается самой надежной, но сердце изнашивается от труда и горя и под бременем усталости становится забывчивым. Утраченное время не исчезает бесследно только у богатых. У бедных оно оставляет лишь размытые следы на пути к смерти. К тому же, чтобы вынести эту жизнь, лучше поменьше вспоминать, придерживаться течения дней, час за часом, как делала его мать, пусть отчасти и не по своей воле, ибо перенесенная в детстве болезнь (по словам бабушки, брюшной тиф. Но от брюшного тифа не бывает таких осложнений. Может быть, сыпной? Или что-то другое? Это тоже было покрыто мраком) обернулась для нее глухотой и затрудненной речью и помешала выучиться тому, чему учат даже самых обездоленных, принудив ее навсегда к безмолвному смирению, но это оказался и единственный доступный ей способ противостоять жизни: что ей оставалось другого, да и кто на ее месте придумал бы что-то лучше? Конечно, ему бы хотелось, чтобы она с жаром предалась воспоминаниям о человеке, умершем сорок лет назад, чью судьбу она разделяла (да и разделяла ли?) в течение пяти лет. Она была неспособна на это, он даже не был уверен в том, что она его страстно любила, во всяком случае, не мог спросить ее об этом прямо, ибо перед ней он тоже чувствовал себя немым и по-своему неполноценным, в глубине души ему не хотелось знать, что происходило между ними, в общем, надо было отказаться от мысли что-либо через нее выяснить. Даже эту историю, которая в детстве произвела на него такое впечатление и преследовала потом всю жизнь, часто возвращаясь во сне, — о том, как отец встал в три часа ночи и пошел смотреть казнь знаменитого преступника, — он услышал от бабушки. Пирет был сельскохозяйственным рабочим на ферме в Сахеле, недалеко от Алжира. Он убил молотком своих хозяев и их троих детей. «Чтобы ограбить?» — спросил тогда Жак. «Да», — сказал дядя Этьен. «Нет», — сказала бабушка, но больше ничего объяснять не стала. В доме обнаружили изуродованные трупы, стены были забрызганы кровью до потолка, а под одной из кроватей нашли самого младшего из детей, он еще дышал, перед смертью он успел написать на побеленной стене, обмакнув палец в кровь: «Это Пирет». Бросились разыскивать убийцу и нашли его где-то в полях с помутившимся рассудком. Негодующая общественность потребовала для него смертной казни. Суд не пришлось уговаривать, и казнь состоялась в Алжире, перед тюрьмой Барбароссы, в присутствии большого скопления народа. Отец Жака встал затемно, чтобы присутствовать при показательном возмездии за преступление, которое, по словам бабушки, глубоко его возмутило. Никто так никогда и не узнал, что там произошло. Казнь, судя по всему, совершилась без неожиданностей. Но отец Жака вернулся домой бледный как полотно, лег на кровать, несколько раз вскакивал и выходил, его рвало, потом он снова ложился. Он так и не захотел никому открыть ни тогда, ни потом, что он там видел. В тот вечер, когда Жаку рассказали про этот случай, он долго лежал в кровати, на самом краю, чтобы случайно не задеть брата, весь съежившись, и тоже едва сдерживал подступавшую от ужаса тошноту, снова и снова перебирая подробности, которые услышал от бабушки или вообразил сам. Всю жизнь потом эти видения преследовали его по ночам, и не часто, но регулярно ему снился кошмарный сон, который слегка видоизменялся, но тема была всегда одна и та же: за ним, Жаком, приходят, чтобы вести его на казнь. Много лет, просыпаясь, он стряхивал с себя оцепенение и ужас и с облегчением возвращался к уютной действительности, где не существовало ровно никакой вероятности, что его могут казнить. Пока он не стал взрослым и в истории не произошли сдвиги, поставившие казнь в ряд событий, напротив, вполне возможных, и он уже не испытывал облегчения, возвращаясь от снов к действительности, пронизанной в течение [определенных] лет той же самой тревогой, которая терзала его отца и которую тот передал ему как единственное и неоспоримое наследство. Эта загадочная связь между ним и незнакомым человеком, похороненным в Сен-Бриё (который тоже, в общем, не думал, что может умереть насильственной смертью), не имела отношения к матери, хотя она знала про этот случай, видела, как отца рвало, но уже не помнила про то утро, равно как и не замечала, что времена переменились. Для нее времена всегда были одни и те же, чреватые непредсказуемыми бедами, готовыми обрушиться в любую минуту.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

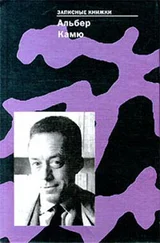
![Альбер Камю - Бунтующий человек. Недоразумение [сборник]](/books/31965/alber-kamyu-buntuyuchij-chelovek-nedorazumenie-sbor-thumb.webp)