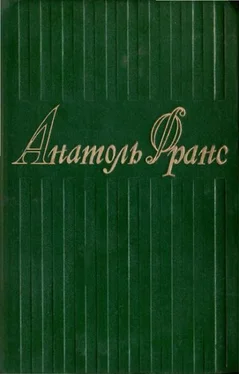— У меня тоже нет удостоверения,— ответил Бротто.— Мы оба находимся под подозрением. Но вы устали, отец мой. Ложитесь спать. Завтра мы обсудим, как устроить вас понадежнее.
Он уступил было гостю матрац, а сам уже собирался лечь на соломенный тюфяк; но монах так настоятельно просил уступить тюфяк ему, что Бротто пришлось удовлетворить просьбу: иначе отец Лонгмар улегся бы на голом полу.
Покончив с приготовлениями, Бротто задул свечу — из экономии и из осторожности.
— Сударь, я сознаю, как много вы делаете для меня,— сказал монах.— Но, увы, я ничем не могу отблагодарить вас. Да вознаградит вас за все господь: это было бы для вас гораздо существеннее. Но бог не считает заслугой то, что делается не во славу его и что является лишь выражением природной добродетели. Поэтому умоляю вас, сударь, сделайте во имя его то, что вы намеревались сделать ради меня.
— Не утруждайте себя какой бы то ни было признательностью, отец мой,— возразил Бротто,— и не благодарите меня. Все, что я сейчас делаю и значение чего вы сильно преувеличиваете, я делаю не из любви к вам: ибо в конце концов, хотя вы и приятны мне, отец мой, я все-таки слишком мало знаю вас, чтобы любить. Я поступаю так и не из любви к человечеству: ибо я не настолько наивен, как Дон-Жуан, чтобы, подобно ему, полагать, будто человечество имеет какие-то права; этот предрассудок в человеке, столь просвещенном, как он, меня даже огорчает. Я действую так из эгоизма, который внушает человеку все великодушные и самоотверженные поступки: ибо эгоизм помогает человеку узнавать самого себя во всяком страждущем, предрасполагает оплакивать в чужом несчастье свое собственное, побуждает оказывать поддержку ближнему, до того похожему на тебя и своей природой и судьбой, что, помогая ему, ты как бы помогаешь себе самому. Я поступаю так еще и от безделья: жизнь до такой степени бесцветна, что надо развлекаться какой угодно ценой; благотворительность — развлечение довольно пошлое, но ему предаешься за отсутствием других, более приятных; я поступаю так из гордости и чтобы иметь преимущество перед вами; наконец, я поступаю так из любви к системе и из желания показать вам, на что способен безбожник.
— Не клевещите на себя, сударь,— ответил отец Лонгмар.— Я сподобился от господа бога бо́льших милостей, чем те, какими он взыскал вас по сей день; но я не стою вас и уступаю вам во всех достоинствах. Позвольте мне, однако, сказать вам, что у меня есть одно преимущество перед вами. Не зная меня, вы не можете меня любить. А я, сударь, не зная вас, люблю вас больше, чем самого себя: так повелевает мне господь.
С этими словами отец Лонгмар опустился на колени, прочел молитвы, затем растянулся на соломенном тюфяке и спокойно заснул.
XIII
Эварист Гамлен второй раз заседал в Трибунале. Перед началом заседания он беседовал с товарищами по суду о новостях, полученных утром. Были среди них неточные и ложные, но то, что не вызывало сомнений, было ужасно: союзные армии, завладев всеми путями к Парижу, наступали разом. Вандея побеждала, Лион восстал, Тулон уже сдан англичанам, которые высадили там четырнадцать тысяч человек.
Для присяжных это были факты, непосредственно их касавшиеся, а не только события, за которыми следил весь мир. Твердо зная, что гибель отечества будет их собственной гибелью, они рассматривали благо государства как свое личное дело. Интересы нации, слитые с их личными интересами, определяли их чувства, страсти, поступки.
Гамлен, уже сидя на скамье, получил письмо от Трюбера, секретаря Комитета обороны: это было извещение о назначении Эвариста секционным комиссаром по снабжению войск порохом и селитрой.
Произведи обыск во всех подвалах, в пределах секции, с тем чтобы изъять оттуда все вещества, необходимые для приготовления пороха. Неприятель, быть может, завтра будет под стенами Парижа: надо, чтобы отечественная почва породила молнию, которой мы поразим врага. Посылаю тебе при сем инструкцию Конвента об устройстве селитроварен. Братский привет!
В эту минуту ввели обвиняемого. Это был один из последних разбитых врагом генералов, которых Конвент отдал суду Трибунала,— едва ли не самый незначительный из них. Увидев его, Гамлен вздрогнул: ему показалось, что это тот самый военный, которого три недели назад судили и отправили на гильотину, когда он, Гамлен, сидел в местах для зрителей. Это был тот же человек, упрямый и ограниченный; это был тот же процесс. Подсудимый отвечал так угрюмо и резко, что портил самые выигрышные из своих ответов. Придирки, словесные уловки, обвинения, возводимые им на подчиненных, заслоняли почетную задачу, которую он выполнял, защищая свою честь и жизнь. В этом деле все было неясно и спорно: расположение армий, численность войск, количество боевых припасов, приказы полученные, приказы отданные, передвижение частей,— ни в чем не было определенности. Никто ничего не понимал в этих операциях, запутанных, нелепых, бесцельных, приведших к катастрофе: защитник и даже сам подсудимый понимали не больше, чем обвинитель, судьи и присяжные; но, странное дело, никто не признавался ни другим, ни самому себе, что он ничего не понимает. Судьи с явным удовольствием зарывались в планы, обсуждали вопросы тактики и стратегии; обвиняемый обнаруживал свою прирожденную склонность к крючкотворству.
Читать дальше