Я обнял ее почти грубо, несмотря на ее откровенное предостережение, и вновь принялся целовать и ласкать — с жадностью голодного человека. На мгновение она как будто поддалась мне, но потом опять отпрянула от меня. Когда же я спросил, что с ней, она торопливо, словно не доверяя себе, ответила:
— Мне пора, мне пора.
— О нет, нет! — воскликнул я. — Неважно, любишь ты меня или нет, только не уходи. Еще слишком рано. Иначе я целый вечер буду ругать себя.
— Мне пора, — повторила Элси.
— Чем ты рискуешь? — нахмурился я. — Ведь ты всегда можешь уйти, когда захочешь.
— Ох! — отозвалась Элси, — до чего же ты слепой и недобрый!.. Мне всего этого хочется не меньше, чем тебе, правда. Зачем ты заставляешь меня признаваться в таких постыдных вещах? Но это правда. Я вся дрожу сейчас. Вот, посмотри. Ах! — и она прильнула ко мне, вновь скользнула в мои объятия и обвила руками мне шею. — Только не делай мне больно, милый, — сказала она и прижалась губами к моим губам.
Тогда я почти взял ее. Если бы не последняя просьба, я бы не удержался. Но тут я вдруг почувствовал, что стою на краю пропасти, и у меня все похолодело внутри. Нет, я не имею права. Нет, я мужчина и должен контролировать себя. Я обнял ее покрепче и, когда она откинула назад голову, поцеловал ее в шею.
— Моя любимая! Я не сделаю тебе больно. Мы всегда будем заботиться о том, чтобы не делать друг другу больно, правда? Так будет всегда.
Легко вздохнув, она вновь нашла мои губы. С тех пор, как мне кажется, ее сопротивление было окончательно сломлено, и я мог взять ее в любой момент, но не посмел. Мое уважительное отношение к ней, мое восхищение ее красотой, ее откровенностью, ее соблазнительным очарованием — все это вновь и вновь помогало мне обуздывать себя. Я не поддался слабости, и тем менее хотел поддаться ей, когда между нами не было никаких барьеров. После этого дня, когда она поняла, что я намерен сдерживать себя, она больше не пыталась сдержать меня сама, отдаваясь во власть моей страсти. Я мог делать с ней, что хотел, и эта вседозволенность, эта власть над любимой сдерживала меня сильнее, чем что бы то ни было еще. Я боролся с собой, и с каждой победой Элси становилась все нежнее, отчего следующий поединок с собой был труднее и легче одновременно. Я сам запутался в тугом клубке своих чувств, не мог объяснить, как ее нежность восторжествовала над моей страстью, которая никуда не делась, выжидала своего часа и пыталась взять верх. Однако с того вечера я крепко держал ее в узде, хотя она вилась, как змея, в моем теле и чуть не победила меня.
А теперь, подобно тем, кто сеет ветер, мы в конце концов подошли к тому, чтобы пожать свою бурю. На мгновение ураган стих; чтобы, так сказать, набрать в легкие воздуха для последнего отчаянного броска. Однако все время находились такие, которые предвещали крещендо в нашем ужасном деле. Мы же, обитавшие в центре бури, этого не говорили — наверное, потому что у нас было много куда более важных вещей, которые надо было обдумать и совершить. Представьте себе: на одной стороне нетерпимые жадные американцы, довольные своим обществом, в котором правят два закона — укради-если-можешь и конкуренция, на другой — иностранные рабочие с идеями справедливости, права, честности в головах и с пустыми животами. Эти нищие иностранцы трудились сверх меры, но недополучали денег; им не компенсировали травмы во время рабочего дня; их увольняли в первую очередь, они редко работали на одном месте больше недели, особенно жестокими были увольнения накануне зимы, чтобы честный работодатель мог избавиться от худших рабочих, а лучшим снизить заработную плату до минимального уровня. На стороне американцев были власти, суд, полиция, вся параферналия так называемого правосудия с вооруженной милицией на подхвате, а в случае надобности и армией Соединенных Штатов Америки. Церковь, профсоюзы, интеллектуалы были на стороне грабителей. С другой стороны, ничем не вооруженные иностранные рабочие, разъединенные принадлежностью к разным национальностям, не понимающие друг друга, не имеющие лидера, общей идеи, выработанной политики. Если сила всегда права, то у них не было шанса; но все же правота становится сильнее, даже во враждебном мире — от этого не отмахнешься. И каким же должен был стать результат?
Один случай пролил свет, словно огненной вспышкой, высветил весь смрад нашей жизни. В то время в центре района, где в основном жили иностранные рабочие, находилась лавка, где продавали лекарства и бакалею. В лавке имелся телефон, по которому быстрые американские репортеры сообщались со своими газетами. У иностранных рабочих были основания подозревать, что по этому же телефону не раз и не два вызывали полицейских. Естественно, к журналистам они относились с ненавистью и подозрением: не были ли они пособниками капиталистической прессы? Однажды вечером несколько польских и богемских рабочих объединились и под предводительством еврея, знавшего оба языка, отправились в лавку, с изрядным шумом ворвались в нее и сломали телефон. За ними последовали другие, которые, восхищенные смелостью первых, принялись громить и крушить все, что попадалось под руку, распивая одновременно вино и виски. К счастью или к несчастью, у бакалейщика были два галлоновых кувшина колхицинового вина. Их нашли, откупорили, мгновенно опустошили, и десять несчастных поплатились за это своей жизнью. Природа щедра и обильна. Я вспомнил этот эпизод, чтобы показать: рабочие тоже не всегда были правы; но, правы или не правы, они платили по счетам, которые были слишком велики. Забавно, что Парсонс из «The Alarm» именно в это время проявил себя во всей красе. После разграбления магазина журналистов встречали недружелюбно. Постоянно на людей с блокнотами нападали забастовщики или проходившие мимо рабочие. Иногда Парсонсу удавалось вмешаться и спасти несчастных. Как я уже писал, Парсонс по своей натуре и воспитанию был умеренным реформатором и не годился ни в мятежники, ни в революционеры. У него был дар оратора, но не мыслителя.
Читать дальше
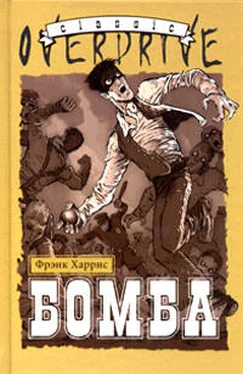







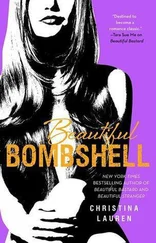
![Владимир Андриенко - Сотрудник Абвера - «Вдова». Метроном смерти. Бомба для генерала [litres самиздат]](/books/437375/vladimir-andrienko-sotrudnik-abvera-vdova-metr-thumb.webp)


