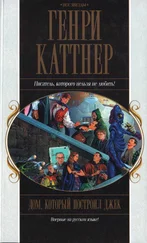— Уезжаете? Я знала, что так будет, знала…
Не слова прозвучали — выдох. Полный беззвучного отчаяния и завтрашней тоски.
— Я сказать должен, что не знаю никого прекраснее вас, Татьяна Николаевна. Вас и вашей Анечки. Не знаю и знать не хочу на всю жизнь.
— Жду, — шепнула она. — Жду всегда, вечно.
Нагнулась через подоконник, а он привстал на цыпочки, и они впервые поцеловались. Бережно и целомудренно и действительно на всю жизнь.
То летнее безумство, которое послужило решительным толчком не только для выяснения отношений между Татьяной Олексиной и Федосом Мининым, но и для ухода последнего из тихой гавани сельского учительства в ревущие бездны гражданских столкновений, никак, ни с какой стороны, не коснулось Леонида Старшова. Удар Лекарева не только отбросил его к сырой подвальной стене, не просто оглушил — он на какое-то время вышиб поручика из неумолимой последовательности исторических событий. До сего момента история несла молодого окопника на своем горбу, и кулак свадебного шафера и друга по юнкерскому училищу сыграл куда большую роль для Леонида, чем для Лекарева: тот просто стремился усидеть на коне — и усидел, а Старшова на какое-то время спешили, выбили из седла, и, когда он, очухавшись, вновь взобрался в него, конь под ним волею судеб скакал уже в другую сторону.
У Леонида было ощущение, что он временами приходил в себя и даже связно отвечал на вопросы, но основательное воспаление легких (они вообще сильно сдали у него за войну), осложненное скверно обработанной раной, долго держало его в зыбком полузабытьи. Его перевозили из лазарета в лазарет, из эшелона в эшелон, из госпиталя в госпиталь, пока однажды поручик Старшов не пришел в себя окончательно. И увидел красивое, упруго-округлое женское лицо, к которому удивительно шла туго накрахмаленная чалма старшей сестры.
— Вы узнаете меня, герой?
— А где я?
— А кто я, вам неинтересно? Так и быть, прощаю вашу забывчивость, учитывая затяжную болезнь. Я Полина Соколова, честь которой вы защищали, не щадя живота своего.
То обстоятельство, что волею великих фронтовых случайностей Леонид попал в госпиталь, где заметно слушались Полину Венедиктовну, если и не спасло от неминуемой гибели, то весьма облегчило госпитальное существование Старшова. Уже не хватало лекарств, уже политикой занимались куда больше и охотнее, чем своими непосредственными обязанностями, уже человек, не имеющий за спиною крепких защитников, считался почти на птичьих правах, но здесь, в этом фронтовом госпитале, у поручика Старшова оказалось привилегированное положение. Его лечили систематически и весьма старательно, его хорошо кормили, за ним ухаживали, и тяжелый процесс, грозивший одно время то отеком, то туберкулезом, был вовремя приостановлен, а затем быстро пошел на попятный. Поручик Леонид Алексеевич Старшов воскрес из мертвых, тогда еще не подозревая, что это воскрешение — первое в длинном ряду.
— Не знал, что вы удивительная милосердная сестра, Полина Венедиктовна.
— Я не сестра милосердия, Старшов. Я командир женской дружины, организованной в поддержку Александру Федоровичу Керенскому. Мы следим за порядком, боремся с фантазерами, паникерами, а в особенности — с пораженцами, и опекаем истинных героев. Будущее России — в руках героев, поручик, об этом неустанно напоминает нам Александр Федорович.
Леонид относился к Керенскому с той иронической недоверчивостью, с какой относились к случайному кандидату в российские Наполеоны все окопные офицеры от правых монархистов до левых эсеров: офицеры-большевики при всей их малочисленности придерживались более определенных и резко отрицательных позиций. Поэтому он старался не вступать в беседы с восторженной командиршей и избегал их столь удачно, что до последнего дня пребывания в госпитале не утратил ее особого расположения.
— К вам гости, поручик Старшов.
— Кто? — Он почему-то больше испугался, чем обрадовался.
— Брат с сестрицей. Не родных я бы к вам не допустила.
Она старалась сделать ему приятное, и он изо всех сил заулыбался, изображая радость, но чувствовал скорее досаду и смятение, а точнее — сначала смятение, а потом досаду. «Значит, Павел изволил, — рассеянно думал он, не зная, что ему предстоит: облегченно возрадоваться или разругаться навсегда. — А сестра… Галя или Дунечка? Лучше бы Дунечка. А еще лучше бы было, если бы никто не приезжал…»
Сказать, что Леонид не любил своих родных, было бы и просто и неверно. Он любил их, изредка писал письма — правда, только матери и Дунечке, — но из отчего дома ушел сам, по собственному решению, и с той поры упрямо считал себя отрезанным ломтем. Сам зарабатывал на жизнь, сам выбирал в ней дорогу — даже женился не только без их благословения, но и сознательно не известив никого о предстоящей свадьбе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу