Была на курсах, но типичных черт курсистки, ни старой, ни новой, — никаких. Спортсменство разве… да и то: разве для новой курсистки оно типично? А спорт Анна любила. Мы и познакомились на царскосельском теннисе.
Я, собственно, не помню, когда я сделал ей предложенье, и было ли «предложенье». Как-то так вышло, что мы уже стали рассуждать о нашей свадьбе и будущей совместной жизни, словно это само собою разумелось и быть иначе не могло.
Спорили мы часто, — но всегда о посторонних вещах. Часто в споре побеждала она. Насчет же того, что мы друг друга любим, — у нас и сомнений не возникало.
Да что тут сомневаться? Я ее действительно любил. Душевно? Право, не умею в любви этого разбирать, вот здесь душа, а вот здесь тело. Любишь — значит любишь, и все тут. Может быть, в юности меньше зоркости и внимания к чужой душе, не так думается об этом, подходишь с другой стороны… а любишь, однако, хоть и без рассуждений, всего человека.
Не скажу, чтобы Анна внушала мне бурную, всепоглощающую страсть; но страсть была, и очень сильная. Я чувствовал Анну — необходимой. Чему-то во мне она страстно отвечала: и голосом, низким контральто, и рыжеватыми, жесткими волнами волос, и «умными» движениями своего мускулистого тела, и даже твердой неуступчивостью в спорах.
Я видел, что она по-своему, но приблизительно так же относится и ко мне. Она сама, первая, поцеловала меня, — в передней как-то, провожая. Поцеловала неловко, неумело (восемнадцать лет!), но без всякой робости, со властью, и поцелуй этот я почувствовал, как «наш».
И потом, всегда, — не очень, правда, часто, — выходило, что она первая обнимет меня крепко, властно, наклонит мою голову и поцелует. Я же — не то, что не смел сделать этого, — почему бы не сметь? — но мне нравилось вот именно это ее движение ко мне, я ждал его и страстно шел навстречу.
Я не слабый и не робкий человек; но в этой девушке, во всем ее существе, было что-то, что давало мне тонкую отраду ей подчиняться, идти за ней. Капризная женская властность мне известна. В Анне было совсем не то, но — простое, прямое что-то, естественное для нее, потому и влекущее. Мы были женихом и невестой; а порою, как ни странно, нельзя было разобрать, кто из нас жених, кто невеста.
Находили на меня, впрочем, полосы буйства: я вдруг начинал не уступать, спорил с горячностью, почти с раздражением, и радовался, когда брал верх. Но до серьезных ссор и тут дело пока не доходило: у Анны был ровный характер, а дуться она и вовсе не умела.
Профессор (не из очень знаменитых), старик и чудак, мало на что обращал внимание. К нему Анна относилась равнодушно: была близка с матерью.
За чаем, по вечерам, мы сидели чаще втроем; лишь изредка вылезет профессор, в халате, добродушно шутит: «Пришел проведать своих Анн и юношу…»
Дочь он звал «Анна-большая», а жену «Анна-маленькая». Моя Анна вышла в отца, — и крупностью, и рыжеватыми волосами (у профессора они с проседью); она, действительно, казалась «большой» перед матерью. Да и не всякий бы и поверил, что эта худенькая женщина, черноволосая и задумчивая, мать Анны. Я, при первом знакомстве, подумал: не мачеха ли? Не вторая ли жена профессора? Но оказалось не так.
— Вы находите маму молодой? — спросила меня раз Анна. — И правда, я совсем на нее не похожа? Все это говорят. Ах, мама живет такой своей жизнью, она, кажется, никогда не состарится… У меня есть ее портрет, девический. Совсем та же, только платье другое. А ведь моложе меня была, когда замуж выходила!
Очень любил я наши вечера за чайным столом. Если разговор переходил в спор с Анной — Анна Ромуальдовна была чаще на моей стороне. Немногословна, впрочем; покачает, улыбнувшись, темноволосой головой и скажет два — три слова, очень просто и тонко, покраснев, как девочка.
Раз, — это было уже зимою, а свадьба наша предполагалась в феврале, — мы с Анной жестоко поспорили; тут я переспросил — она замолчала. Но я чувствовал себя в ударе (полоса буйства нашла) и продолжал говорить. С предмета спора, — о какой-то книжке, — перескочил к рассуждениям вообще, чуть ли не о философии искусства заговорил, чуть ли не о стихах, наконец… Анна слушала, сдвинув брови… Но в пылу вдохновенья я взглянул на Анну Ромуальдовну — и невольно остановился: так прекрасно было ее лицо. Все оно — внимание; во взоре, робко вопрошающем, в полуоткрытых губах что-то детское или девическое. Кого она мне напомнила? На кого она похожа? Лишь через минуту встала передо мною любимая картина Мурильо: нежный овал розовато-смуглого лица, черные завитки около ушей, и внимательный, полуудивленный взор широко открытых девических глаз. Как он пронзал меня всегда, — этот взор!
Читать дальше
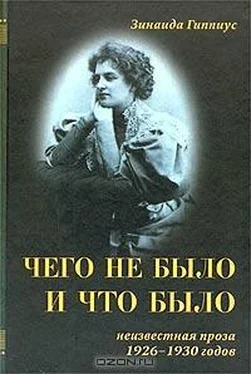



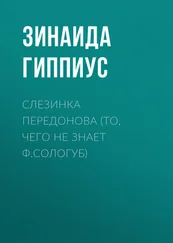


![Элизабет Лофтус - Миф об утраченных воспоминаниях [Как вспомнить то, чего не было] [litres]](/books/412244/elizabet-loftus-mif-ob-utrachennyh-vospominaniyah-k-thumb.webp)


