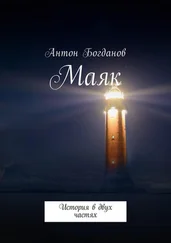Председательствуя в своем маленьком собрании, сообразительный дядя Гаврик постарался внести хотя какой-нибудь свет в эту непроглядную путаницу понятий. С знанием человеческой природы, Бог знает откуда у него взявшимся, он особенно налегал на идею собственности.
— Вот кабы вы твердо знали свою собственность, да соблюдали, что вам положено по уставной грамоте, — поучал он с сознанием своего юридического превосходства, — тогда никто бы вас не обидел; a то вам даны, значит, права, a вы ровно бараны какие: кто хочет, тот вас и стриги!
Оно, братцы, похоже, словно дядя Гаврик правду говорит, заметил старый Бычков, поглядывая на крестьян.
Какие же это такие права, Степаныч? — спросил молодой Иван Хмелевский, стараясь уловить смысл солдатской речи.
Такие, значит, права, что коли этот кафтан, к примеру сказать, твой, так, стало, никто его отнять у тебя не может, a с вас не токмо кафтан, голову снять можно! Как есть бараны, — повторил он.
— Нет, ты постой, Степаныч, — возразил Петр Подгорный, старик лет 65-ти, с длинной седой бородой, сообщавшей ему какой-то библейский тип, с медленными внушительными движениями. (Старик говорил тихо, вразумительно, почти сypoво и между крестьянами пользовался большим авторитетом). — Постой, ты говоришь: кафтан. Кафтан точно что с меня не сымут — потому он мой, и я его не дам, потому знаю, что он мой, a вот ежели придет приказ на какую-нибудь надобность деньги представить — то как я могу иметь сопротивление против закона?
— Эк вас законом-то постращали! — махнул нетерпеливо рукой Щелкунов. — Словно зверя какого боятся! — Да ты, дедушка, пойми, что закон закону рознь: есть. такой, что от Бога поставлен — значит, не убей, не укради, не лжесвидетельствуй, хоть иной раз и нельзя не соврать, — прибавил он как бы в скобках.
Это точно, серьезно подтвердил Степан Черкасс, мужик степенный и вдобавок сельский староста.
— Без этого как, же — согласились братья Бычковы, Сидор и Антип.
— Hе всякий раз убережешься, — улыбался им в ответ Иван Хмелевский.
На счет баб тоже, продолжал Щелкунов, — значит, чужую жену, Боже сохрани! Все это от Бога и в церкви читается, a есть закон от царя, — продолжал тем же поучительным тоном дядя Гаврик: — служи верой и правдой, себя в чести соблюдай — на то присягу принимал — это закон печатный, тоже соблюдать всяк должен: a у вас старшина с арендателем такой закон выдумали, что ни в какой книге не найдешь и только в вашей волости соблюдается.
— Ну, ты этого, дядя, не кажи, вступился Степан Черказ, — во всех так. Вот намедни дядя Боровик, из Малковской волости, сказывал, что у них страсть что делается: посредник говорит, аж чистый зверь. Взял он это, братцы, большущее имение на аренду, ну и хочется ему денежки с прибытком вернуть… Обложил, говорит, барщиной, вздохнуть не дает, и чуть что — сейчас к себе па конюшню: сам покуривает, a тебя дерут… И пьет же шибко, сказывают: водку, говорят, ведрами с графского завода доставляют… Вот, говорит, вам, подлецы, закон, a сам кулак показывает.
— Отколь он такой? — спросили в один голос Бычковы.
— Из «Россеи».
Там, значит, братцы, таких не требуется! Сострил Хмелевский, и все засмеялись.
— A как его звать осведомился старик Подгорный.
— Звать Гвоздика, Михаил Павлович Гвоздика. Дядя Боровик сказывал: здоровый такой, аж быка повалит…
— Вот кабы его, братцы, к нам, они бы со старшиной померялись! Воскликнул Хмелевский.
— Нy, типун тебе на язык, сказал Черкас и предложил всем выпить.
Мужики выпили и хотя потом еще долго толковали, но решить ничего не могли. После пятого шкалика, дядю Гаврика прошибла слеза, и он уныло смотрел на печку. Подгорный сказал, что пора домой, и все разом поднялись, шумно отодвигая тяжелый стол.
— Эй ты, Ицка, собирай гроши!
Сонный еврей, притворно или в самом деле дремавший за стойкой, вмиг отрезвился, заслышав звон медной монеты и, тряхнув своими пейсами, с деловым видом подошел к мужикам. Расплатившись, все вышли из корчмы.
— Экие вы дубовоголовые, ей Богу! говорил, не твердо владея языком, Щелкунов, выходя на улицу и утирая рукавом слезы, вызванные лишней косушкой. Ведь мне что? наплевать! А вы посмотрите, как в «Россе», ведь царь да закон — для всех один…
— Оно так-то так, да словно как будто супротив начальства неловко, сказал в раздумье Черкас.
— Ну, черт с вами, коли вам не ловко! A мне что? сказал: наплевать! Как себе знаете; мне все равно! — И дядя Гаврик заплакал.
Но Гаврику было не все равно; под его серой шинелью билось доброе сердце; ему хотелось переменить порядок, который противоречил его понятию о справедливости, и он, не долго думая, принялся за дело. Видя, как еврей-арендатор теснит со всех сторон крестьянина, как старшина, ради собственных барышей, покрывает еврея, и оба, состоя под защитой мирового посредника, пользуются полной безнаказанностью — Щелкунов решился надоумить мужиков стоять на законе. — Послушают — хорошо, не послушают — им же хуже, — рассуждал он в длинные осенние вечера, усердно работая челноком над рыболовной сетью. Была бы честь предложена, a от убытка Бог избавит. Но от убытка Бог не избавил. Щелкунов сумел задеть струну, одинаково чувствительную для людей на всех ступенях развития, не смотря на кажущееся различие в приемах и понятиях каждого, и, коснувшись собственности, этого рокового стимула всех человеческих действий, он вступил на самый верный путь: если мужик понимал, что кафтан принадлежит ему на неотъемлемом праве собственности, то он способен понять и то, что вол его, и поле его, и что если с него требуют больше, нежели он должен дать по закону, то тут что-то неладно. Очень может быть, что мужики понимали это сами и давно, но по врожденной беспечности, запуганные и почти одичавшие в своей глуши, зная в добавок из долголетнего опыта, что кто силен, тот и прав — молчали. Теперь же закваска, брошенная рукою Щелкунова, начинала свое медленное брожение в головах, и братья: Бычковы, и Степан Черкас с Филиппом Тилипутом, и Иван Хмелевский и после всех самый осторожный Петр Подгорный, проживший слишком полвека под ярмом — все они призадумались. От помышления до действия был всего один шаг, и после целого ряда поучительных бесед, Щелкунов добился того, что крестьяне сочинили жалобу на безбожные поступки еврея-арендатора Цаплика, под редакцией самого Щелкунова, и с великими предосторожностями отправили ее в главную контору княжеских имений. Ответа никакого не последовало. Они написали другую, за ней третью и даже четвертую. На четвертую получен был такой ответ, который отбил у крестьян всякую охоту к дальнейшим дипломатическим переговорам. Сосновцы навремя притихли; они, быть может, притихли бы на долго, если бы не случилась одна из тех неожиданностей, о которой мы тотчас расскажем читателю.
Читать дальше

![Леонид Резник - Диктатор поневоле [Фантастическая повесть в двух частях]](/books/26775/leonid-reznik-diktator-ponevole-fantasticheskaya-po-thumb.webp)