Светляки, о которых Болек-пастух говорил, что это блуждающие души, светились в темноте. Гниль мерцала голубым фосфорическим огнем на черном бархате ночей.
С тех пор как польские солдаты в фуражках-гоменташах прогнали из округи последние чужеземные мундиры и, раскрасив все столбы красными и белыми полосами, увенчали их белыми орлами, Ойзер больше не двигался из деревни. Покой вновь вернулся на землю. Вооруженные мужчины скинули с себя оружие. Вместе со всеми соседскими юношами, которые возвратились домой в свои деревни, возвратился и единственный сын Ойзера, Эля. Обожженный солнцем, огрубевший, с руками, окрепшими за несколько месяцев войны от рытья окопов и от винтовки, в один прекрасный день он пришел в коротком, маловатом ему мундире и рваных желтых солдатских ботинках в Кринивицы.
Хана, Ойзер, Маля и Даля, дворовые собаки — все бросились к нему, целовали, ощупывали и не узнавали. Оторванный всего на несколько месяцев от учебы в городе, он показался им чужим и из-за того, что внезапно вырос, и из-за своего огрубевшего голоса, и из-за запахов кожи, пыли и дыма, которые исходили от него. Хана прижала его к своей груди, как ребенка.
— Элеши, Эля, золотце мое, деточка моя, — бормотала она, как мать над малым дитем, обращаясь к юноше в солдатской форме, — пусть мне будет за каждый твой ноготок.
Эля, отец, сестры — все смеялись над ее материнскими щебечущими словами, которые она шептала огрубевшему солдату.
После нескольких недель отдыха Эля сбросил с себя все солдатское и снова погрузился в учебники, от которых его оторвали на несколько месяцев, упаковав в мундир. Волосы отросли, ссадины на руках зажили, и он теперь целыми днями решал в тетради задачи по математике. Он был мамин сын, этот Эля. Он терпеть не мог деревню и не находил там себе места. Его тянуло в город, к школе и книгам. Хана испекла для него целую кучу печенья, надавала ему бутылки с вишневым соком, мед, сыр, сложила вареные яйца и яблоки в его дорожную сумку и снабдила его таким множеством провизии, что ему должно было хватить на несколько недель.
— Сокровище мое, гордость моя, утешение мое, — бормотала она, целуя его бессчетно в пухлые щеки, — ты один, деточка, воздаянье мое за все мои мучения.
Теперь Ойзер прочно обосновался в Кринивицах.
Он больше не надеялся на неожиданное счастье, на которое надеялся когда-то: ни на железную дорогу, ни на хорошее возмещение по реквизиционным квитанциям, которые ему надавали. Теперь он уже видел, что придется в поте лица своего добывать пропитание из неплодородной кринивицкой земли. Но он ощущал блага покоя после всех скитаний и мытарств. И он затыкал уши каждый раз, когда Хана пыталась снова заикнуться насчет Ямполья.
— Здесь я родился, здесь и умру, — твердо отвечал он.
Он готовился к трудной, но тихой жизни, вдалеке от людей и суеты, к жизни своих дедов и прадедов, на земле и в покое.
Но в тихих, опустевших Кринивицах не было больше покоя с тех пор, как местные крестьянские сыновья в своих остроугольных польских фуражках и желтых французских ботинках вернулись с полей сражений.
Они, в отличие от Эли, сына Ойзера, не сбросили с себя солдатскую форму, они носили ее не снимая. Точно так же они не расстались со своей солдатской бесшабашностью, праздностью, тягой к грабежу и насилию; их теперь удивляли их покорные, работящие родители.
Сперва они принялись за своего соседа Залмена-смолокура, который теперь держал лавочку в деревне Домбрувка, которая лежала на полпути из Кринивицев в Ямполье. Там, где торчит старый, покосившийся, украшенный бумажными цветами крест, на котором висит голый Иисус, на самом распутье дорог, у Залмена, кринивицкого смолокура, который когда-то, еще при реб Ури-Лейви, жил в усадьбе, стоял ветхий домик, без плетня и ограды, беззащитный перед всеми ветрами и опасностями. С обгоревшей в годы войны от шальных пуль в годы войны крышей, с просмоленными стропилами вокруг тонкой торчащей трубы, открытый бурям и дождям, этот еврейский домик стоял, украшенный маленькой вывеской, на которой был кое-как намалеван бочонок керосина.
В маленькой комнатке, где находились две кровати и шаткий столик со сломанными скамьями, а на полке лежали сыр, талес и тфилн, стояли субботние медные подсвечники и сидели сонные куры, хозяин домика держал бочку керосина, мешок соли, несколько кусков зеленого мыла, ящик гвоздей и слегка засиженную мухами коробку с табаком и папиросами. Залатанная дверь была сплошь исписана мелом — суммами, которые задолжали окрестные крестьяне, бравшие товары в кредит.
Читать дальше







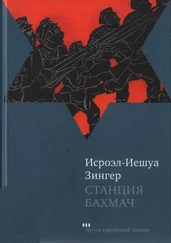
![Роберт Хайнлайн - Чужак в чужой стране [= Чужой в чужой земле, Пришелец в земле чужой, Чужак в стране чужой, Чужак в чужом краю, Чужой в стране чужих]](/books/306957/robert-hajnlajn-chuzhak-v-chuzhoj-strane-chuzhoj-v-chu-thumb.webp)



