— Фройче, хочешь меня в невесты? — спрашивала она, смеясь.
Даля сгибалась в три погибели.
По маленьким окошкам, заткнутым в отбитых углах тряпками, хлестал косой осенний дождь, и капли бежали слезами по тускло освещенному стеклу. Снаружи у крыльца лаяли собаки, просили, чтобы им открыли дверь.
4
Поскольку Маля и Даля так вымахали, что мать едва доставала им до плеча, Хана начала осторожно обхаживать мужа, выжидая подходящую минуту, когда Ойзер будет в добром расположении духа, чтобы поговорить с ним о серьезном деле.
Дочери теперь все время стояли у Ханы перед глазами, выросшие и по-женски созревшие. Особенно удались руки и ноги, длинные и стройные. Когда они расхаживали в своих коротких, ими самими сшитых ситцевых платьицах, из которых торчали голые руки и ноги, казалось, будто их стройные и гибкие тела состоят из одних только рук и ног. Вот эти-то длинные руки и ноги и стояли все время у Ханы перед глазами.
— Маля, Даля, — стыдила она дочерей, — прикройтесь, перед гоями совестно.
Но Маля, как обычно, смеялась, а Даля вторила ей.
Еще больше, чем взрослость дочерей, Хану терзала мысль о приступах головной боли, которые внезапно случались с девушками и держались по целым часам и даже дням. Сперва сильные головные боли начались у Мали. Она обвязывала лоб белым платком, над которым черные как смоль волосы выглядели еще чернее и жарче. Казалось, они пылают своей чернотой. За Малей, как тень, начала ходить Даля, тоже с белым платком, обвязанным вокруг головы. Их глаза, обычно широко раскрытые и удивленные, словно они только что услышали невероятную новость, начинали смотреть по-другому. Вдруг эти радостные и озорные глаза, которые, казалось, воспламеняют вокруг себя воздух, болезненно заволакивались обморочной тоской, то же самое происходило с настроением сестер: только что они баловались и проказничали и вдруг становились болезненно печальны. Белые платки вокруг девичьих голов и эти дикие перемены настроения ужасали Хану. Хотя она твердо знала, что разговоры с Ойзером никогда не доставляли ей никакого удовольствия, она вертелась вокруг него, заглядывала ему в глаза, ожидая, когда он будет расположен поговорить о домашних делах.
— Ойзер, — тихо сказала Хана, опустив голову, словно уже провинилась тем, что решилась заговорить, — Ойзер, Мале уже двадцать лет, до ста двадцати ей.
— Ну? — сухо спросил Ойзер.
Хана погладила своего единственного сына, которого все время прижимала к фартуку, как напоминание о том, что она после дочерей родила кадиш своему мужу.
— Даля тоже, не сглазить бы, очень выросла. Девочки растут как на дрожжах.
— И что из этого следует? — пробормотал Ойзер, хотя знал, к чему клонит Хана.
После свадьбы, с тех пор как отец женил его на Хане, хотя он втайне был влюблен в троюродную сестру, он никогда сам не заговаривал со своей женой, лишь отвечал ей коротко и сердито, сверху вниз. Хана каждый раз, слыша угрюмые ответы мужа и его насмешливый тон, чувствовала себя глупо.
— Кринивицы не место для взрослых дочерей, — пролепетала Хана.
Ойзер вскипел.
— И что, может быть, я должен из-за них переехать в Ямполье, на рыночную площадь? — спросил он.
Хотя Хана не видела в таком переезде ничего зазорного, она не решалась прямо сказать об этом мужу.
— Кто говорит о Ямполье? — отозвалась она. — Я только имею в виду, что следует подумать… Ты же отец…
Ойзер расчесал подстриженную бороду, которую он холил, что твой помещик, и, как обычно, презрительно отмахнулся от Ханы.
— Не горит, женщина, — сердито сказал он. — Чтобы я столько же мог уделять времени своим делам, сколько я забочусь о дочерях… Ступай, ступай…
Хотя он и понимал про себя, что, по существу, Хана говорит о важном деле, он не мог вынести того, что жена перекладывает женские заботы на его плечи. Ойзер терпеть не мог забот, терпеть не мог думать о важных делах. Его красивая черная голова была приспособлена не для размышлений, а для раздражения и мечтаний: его раздражал весь свет, который не дает ему, Ойзеру Шафиру, всего того, чего он хочет, и он мечтал о тех золотых временах, которые в конце концов неожиданно нагрянут в Кринивицы и одарят его всевозможными благами. Лежа после обеда на плюшевом канапе, подложив под голову думку, на которой Хана еще невестой вышила готическими буквами Morgenstunde hat Gold im Munde [32] Немецкая пословица, аналогичная русской «Кто рано встает, тому Бог подает», букв. «У утреннего часа золото во рту» ( нем. ).
, Ойзер не переставал думать о кринивицкой усадьбе, которая вскоре начнет процветать, и о той помещичьей жизни на широкую ногу, которую он еще будет вести.
Читать дальше







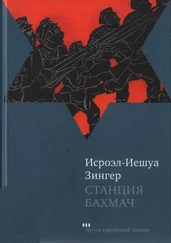
![Роберт Хайнлайн - Чужак в чужой стране [= Чужой в чужой земле, Пришелец в земле чужой, Чужак в стране чужой, Чужак в чужом краю, Чужой в стране чужих]](/books/306957/robert-hajnlajn-chuzhak-v-chuzhoj-strane-chuzhoj-v-chu-thumb.webp)



