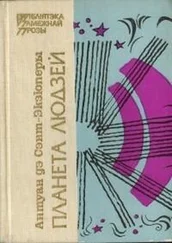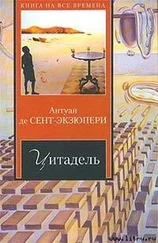Так спал и сержант, он свернулся в клубок — не разберешь, где что; когда подошли его будить, зажгли свечу и воткнули ее в горлышко бутылки, я сперва только и разглядел в этой бесформенной темной глыбе его башмаки. Огромные, с подковами, подбитые гвоздями башмаки поденщика или докера.
Обувь этого человека предназначалась для тяжелой работы, и все остальное на нем тоже было рабочим снаряжением: подсумки, револьверы, пояс, ремни. На нем были шлея, хомут, вся сбруя ломового коня. В Марокко я видел подземные мельницы, там слепые лошади ходили по кругу, вращая жернова. Вот и здесь, при неверном красноватом огоньке свечи, будили слепую лошадь, чтобы она вращала свой жернов.
— Эй, сержант!
Он медленно шевельнулся, забормотал что-то невнятное, я увидел сонное лицо. Но он не хотел просыпаться, он опять отвернулся к стене и опять погрузился в сон, будто в безмятежный покой материнского чрева, будто в омут, и сжимал кулаки, словно цеплялся там, на дне, за неведомые черные водоросли. Пришлось разжать ему пальцы. Мы присели на койку, один из нас тихонько обхватил его шею и, улыбаясь, приподнял тяжелую голову. Так в добром тепле конюшни ласково тычутся друг в дружку мордами лошади. «Эй, приятель!» Никогда в жизни не видывал я ласки нежнее. Сержант еще раз попытался вернуться к блаженным снам, отвергнуть наш мир с его динамитом, тяжким трудом, леденящим холодом ночи… но поздно. Что-то извне уже вторгалось в его сны. Так воскресным утром в коллеже звонок неотвратимо будит наказанного школьника. Он успел забыть парту, классную доску, заданный в наказание урок. Ему снились веселые игры на зеленом лугу; но все напрасно. Звонок звонит и звонит — и безжалостно возвращает его в царство людской несправедливости. Так и сержант понемногу заново свыкался со своим усталым телом, оно ему в тягость, и очень скоро, вслед за холодом пробуждения, оно узнает ноющую боль в суставах и груз снаряжения, а там — тяжкий бег атаки — и смерть. Не столько даже смерть, как липкую кровь, в которой скользишь ладонями, пытаясь подняться, и удушье, и леденящий холод: ощущаешь не столько самую смерть, но уж очень неуютно умирать. Я смотрел на сержанта и вспоминал, каково было мне просыпаться в пустыне, вновь ощущать бремя жажды, солнца, песка, вновь ощущать бремя жизни — возвращаться в этот тяжелый сон, который видишь не по своей воле.
Но вот сержант поднялся и смотрит нам прямо в глаза:
— Уже пора?
Тут-то и раскрывается человек. Тут-то он и опрокидывает все предсказания здравого смысла: сержант улыбался! Что за радость он предвкушал? Помню, однажды в Париже мы с Мермозом и еще несколько друзей справляли чей-то день рожденья и далеко за полночь вышли из бара, злясь на себя за то, что слишком много говорили, слишком много пили и без толку вымотались. А небо уже светлело, и вдруг Мермоз стиснул мою руку, да так, что впился в нее ногтями. «Послушай, а ведь сейчас в Дакаре…» В этот час механики протирают спросонья глаза и расчехляют винты самолетов, в этот час пилот идет к синоптикам за сводкой, по земле шагают сейчас только твои товарищи. Небо уже голубеет, уже идут приготовления к празднику — но не для нас, уже расстилают скатерть, а мы не приглашены на пир. Сегодня жизнью будут рисковать другие…
— А здесь — экая гнусность… — докончил Мермоз.
А ты, сержант, на какое пиршество ты приглашен, ради которого не жаль умереть?
Я уже говорил с тобой по душам. Ты поведал мне историю своей жизни: был ты скромный счетовод где-то в Барселоне, выводил цифру за цифрой, и тебя мало занимала распря, расколовшая страну надвое. Но вот товарищ ушел добровольцем на фронт, потом другой, третий, и ты с недоумением ощутил в себе перемену: все, что прежде тебя занимало, стало казаться пустым и никчемным. Твои радости и заботы, твой уютный мирок — все это словно отодвинулось в далекое прошлое. Важно оказалось совсем другое. Тут пришла весть о смерти одного из товарищей, он погиб под Малагой. Он не был тебе другом, за кого непременно надо отомстить. А что до политики, она никогда тебя не волновала. Но эта весть ворвалась к вам, в ваши тихие будни, точно ветер с моря. В то утро один из товарищей поглядел на тебя и сказал:
— Пошли?
— Пошли.
И вы пошли.
Предо мной возникают образы, помогающие понять истину, которую ты не умел высказать словами, но которая властно тебя вела.
Когда приходит пора диким уткам лететь в дальние страны, на всем их пути прокатывается по земле тревожная волна. Домашние утки, словно притянутые летящим треугольником, неуклюже подскакивают и хлопают крыльями. Клики тех, в вышине, пробуждают и в них что-то давнее, первобытное. И вот мирные обитательницы фермы на краткий миг становятся перелетными птицами. И в маленькой глупой голове, только и знающей что жалкую лужу, да червей, да птичник, встают нежданные картины — ширь материков, очертанья морей, и манит ветер вольных просторов. Утка и не подозревала, что в голове у нее может уместиться столько чудес, — и вот она хлопает крыльями: что ей зерно, что ей червяки, она хочет стать дикой уткой…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу