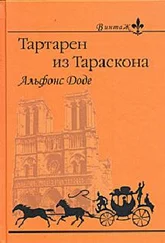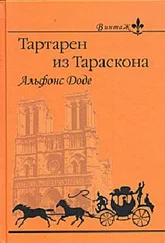Открылась оклеенная обоями дверь, и появилась г-жа Руместан, готовая к выезду, изящно причесанная, в широком манто, скрывавшем округлость ее талии. С обычной для нее в эти последние пять месяцев спокойной и ясной улыбкой она спросила:.
— Сегодня у тебя Совет министров?.. Добрый день, господин Межан!
— Ну да… Совет… Заседание Палаты… Чего только нет!
— А я было хотела просить тебя поехать вместе со мной к маме… Я у нее завтракаю… Ортанс была бы так рада!
— Что ж делать, это невозможно.
Он взглянул на часы.
— В двенадцать я должен быть в Версале.
— Тогда я подожду и завезу тебя на вокзал.
Он колебался секунду, только одну секунду.
— Хорошо. Я подпишу бумаги, и мы поедем.
Пока он писал, Розали шепотом сообщала Межану о самочувствии сестры. Приближение зимы плохо сказывалось на ней, врачи запретили ей выходить. Почему он не зайдет проведать ее? Ей нужна поддержка друзей. Межан грустно и безнадежно пожал плечами:
— Но я…
— Да нет же, нет!.. Насчет вас еще далеко не все решено. Это просто каприз, я думаю, это ненадолго.
Ей все представлялось в радужном свете, и она хотела, чтобы все кругом тоже были счастливы, ибо она ощущала такую полноту счастья, что ив неясного суеверного чувства не решалась в этом признаться даже самой себе. А Руместан всюду трубил о предстоящем счастливом событии — и посторонним и близким — с какой-то комической гордостью.
— Мы назовем его «дитя министерства»! — говорил он и до слез смеялся собственной шутке.
Каждому, кто знал, какую жизнь он вел вне дома, в своей бесстыдно существовавшей на виду у всех второй семье, где давались приемы и всегда был открытый стол, этот заботливый и нежный супруг, со слезами на глазах говоривший о своем будущем отцовстве, представлялся человеком необъяснимым, поразительно невозмутимым в своей лживости, искренним в своих излияниях, и это сбивало с толку всех, кто не имел понятия о пагубных противоречиях, которые возникают у людей с южным темпераментом.
— Нет, знаешь, лучше я тебя завезу… — сказал он жене, садясь в карету.
— Но ведь тебя ждут?..
— Подумаешь!.. Пусть подождут… Зато мы подольше побудем вместе.
Он взял Розали под руку и прижался к ней, как мальчик.
— Видишь ли, мне только с тобой по-настоящему хорошо. Твоя мягкость успокаивает меня, твое хладнокровие придает мне сил… Этот Кадайяк довел меня до исступления… Человек без совести, без всяких моральных основ…
— Разве ты его не знал?
— Как он ведет театр! Позор!
— Да, пригласить девицу Башельри… Как ты допустил?.. У этой особы все поддельное — и молодость, и голос, и даже ресницы.
Нума почувствовал, что краснеет. Ведь теперь это он своими толстыми пальцами укреплял малюткины ресницы! Мамаша Башельри быстро его этому обучила.
— С кем связано это ничтожество?.. Недавно в «Месс а же» писалось о весьма влиятельных и таинственных покровителях…
— Не знаю… Наверно, с самим Кадайяком.
Он отвернулся, чтобы скрыть смущение, и вдруг в ужасе откинулся назад.
— Что там такое? — спросила Розали и тоже выглянула в окошко кареты.
На каждом перекрестке, на каждом свободном местечке любой стены или дощатого забора красовалась громадная кричаще-пестрая афиша скетинга, особенно заметная под дождливым сереньким небом, и на каждой такой афише повторялось гигантское изображение трубадура и сцен из живых картин, выделявшихся желтыми, зелеными, синими пятнами, а поперек всего этого охрой был намалеван тамбурин. Длинный палисадник перед ратушей, мимо которого проезжала сейчас их карета, весь был заклеен этой грубой, яркой рекламой, от которой обалдевали даже парижские ротозеи.
— Мой палач! — произнес Руместан с комическим отчаянием.
Розали ласково пожурила его:
— Нет… не палач, а жертва… И если бы только единственная! Но ведь твоей восторженностью загорелся и кое-кто другой…
— Кто это?
— Ортанс.
И тут Розали поведала ему о том, в чем наконец вполне уверилась, несмотря на таинственное молчание девушки, — о ее любви к этому крестьянину, любви, которую она, Розали, считала сперва причудой, но которая теперь тревожила ее как ненормальность.
Министр вознегодовал:
— Да не может быть! Мужик, простофиля!..
— Она видит его таким, каким рисует в своем воображении, и прежде всего — в ореоле твоих легенд, твоих выдумок, которых она не сумела оценить по достоинству. Вот почему эта реклама, эта раздражающая тебя шутовская пестрота меня, наоборот, радует. Я надеюсь, что ее герой покажется ей настолько смешным, что она разлюбит его. Иначе я даже не представляю себе, к чему все это могло бы привести. Вообрази себе отчаяние отца… Вообрази, наконец, самого себя в качестве Вальмажурова шурина… Ах, Нума, Нума! Ты вводил в заблуждение людей, сам невольно поддавшись обману.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу