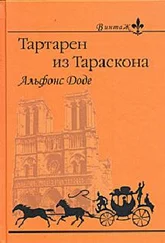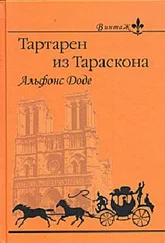— Барин уже ушел?
Ее еще не успело поразить смущение лакея, не знавшего, что сказать, и внезапная бледность его широкой пахальной рожи с длинными бакенбардами. В этом она усмотрела только волнение слуги, которого хозяйка застала на месте преступления. Однако ему пришлось сказать, что барин еще дома, «что он сейчас занят… и не скоро освободится». Но как долго он все это бормотал, как дрожали у него руки, когда он убирал со стола грязную посуду и ставил чистый прибор для хозяйки!
— Он завтракал один?
— Да, барыня… То есть… с господином Бомпаром.
Взгляд ее упал на черную кружевную накидку, небрежно свисавшую со спинки стула. Мошенник-лакей тоже взглянул на кружево, их взгляды встретились, и тут точно вспышка молнии озарила ее сознание. Она молча устремилась вперед, пробежала через маленькую приемную прямо к двери кабинета, распахнула ее и без чувств упала на пол.
Если б вы видели ту женщину! Потрепанная сорокалетняя блондинка с красноватой сетью жилок на щеках, с тонкими губами, с морщинистыми, словно старая лайковая перчатка, веками; под глазами темные круги — следы жизни, растраченной на любовные утехи, квадратные плечи, неприятный голос. Но она была великосветская дама. Маркиза д'Эскарбес! А южанину это заменяет все, герб заслоняет женщину. Расставшись с мужем после скандального процесса, порвав со своей семьей и домами в Сен-Жерменском предместье, г-жа д'Эскарбес перешла на сторону империи, открыла политический и дипломатический салон с едва уловимым полицейским душком, который посещали без жен тогдашние знаменитости. Два года она занималась интригами, приобрела сторонников, влиятельных друзей и, наконец, решила подать на обжалование своего дела. Руместан выступал ее защитником в первой инстанции, не мог уклониться от участия и во втором процессе. Правда, он несколько колебался — слишком уж афишировала маркиза свои новые политические взгляды. Но эта дама нашла к нему подход, который очень уж льстил тщеславию адвоката, и он сложил оружие. Теперь они виделись каждый день, то у него, то у нее: приближалось слушанье дела, н они вели его, так сказать, по двойной бухгалтерии и убыстренными темпами.
Это ужасное открытие едва не убило Розали — такой страшный удар нанесло оно ее женской чувствительности, обострившейся из-за того, что она собиралась стать матерью и в ней бились теперь два сердца, страдали два существа. Ребенок погиб, мать выжила. Но, придя через три дня в сознание и обретя вновь память и способность терзаться воспоминаниями, она разразилась потоком таких горьких слез, что их, казалось, никак нельзя было остановить и осушить.
Когда же она перестала оплакивать измену мужа и друга, то один вид пустой колыбельки, где под голубоватым кружевным пологом лежало единственное сокровище — сшитые ею детские вещички, — один этот вид исторгал у нее не крики, не жалобы, а новые потоки слез. Бедный Нума сам был близок к отчаянию. Надежда на рождение маленького Руместана, «старшего сына», которому в провансальских семьях придается особое значение, погибла, исчезла по его вине. Перед ним было бледное женское лицо с выражением полной отрешенности, горе со стиснутыми зубами и глухими рыданиями, разрывавшими ему сердце и так непохожими на те поверхностные, грубоватые проявления чувства, которым предавался он, сидя на кровати, в ногах своей жертвы, и тараща на нее полные слез глаза.
— Розали… Послушай, не надо!..*— бормотал он дрожащими губами, не находя других слов, но как выразительны были эти «Послушай, не надо!..» Он произносил их с южным акцентом, легко усваивающим жалостные интонации. За ними так я слышалось: «Да не огорчайся же, бедная моя глупышка!.. Стоит ли? Разве это помешает мне любить тебя?»
И он, правда, любил ее — настолько, насколько способна была к длительному чувству его легковесная натура. Никакой другой женщины не хотел бы он видеть хозяйкой своего дома, ни от кого другого не хотел бы принимать заботы и ласки. Часто он простодушно признавался: «Мне нужно, чтобы подле меня был преданный человек». И он отдавал себе полный отчет в том, что вдесь преданность была самая полная, самая ласковая, о какой только можно было мечтать. Мысль, что он мог лишиться ее, приводила его в ужас. Разве с его стороны это не было любовью?
Розали — у вы — представляла себе любовь совсем иначе. Жизнь ее была разбита, идол повержен, доверие навеки утрачено. И все же она простила. Простила из жалости, как мать уступает ребенку, который плачет, вымаливая прощение. Простила еще ради того, чтобы сохранить незапятнанным их имя, имя ее отца, которое загрязнил бы скандал развода, и еще потому, что родные считали ее счастливой и она не решалась отнять у них иллюзии. Правда, благородно даровав прощение, она предупредила мужа, чтобы он не рассчитывал на него вторично, если еще раз нанесет ей оскорбление. С этим должно быть покончено навсегда, иначе — разрыв жестокий, решительный, открытый. В тоне и взгляде, которыми ему это было дано понять, женская гордость торжествовала над всеми приличиями и условностями.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу