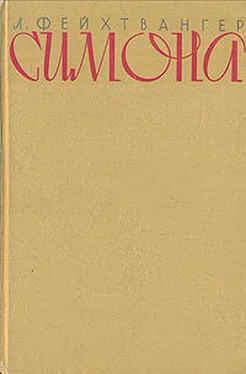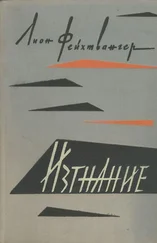Симона подала сигареты и спички и вышла. В дверях она незаметно оглянулась. В ярком свете очень сильных ламп мадам сидела одна, толстая, черная, и курила.
Рассвет едва забрезжил, а Симона уже с величайшим нетерпением ждала дядю Проспера. "Он вернется с первыми лучами солнца", — сказал супрефект. Утро разгоралось. Десять раз выбегала Симона в сад, на то место, откуда открывалась дорога, и каждый раз ни с чем возвращалась назад.
Теперь она — как вчера, а вероятно, и сегодня мадам — не раз и не два взвешивала каждое слово супрефекта. Но, в противоположность мадам, ее не тревожили опасения за судьбу дяди Проспера. Она убеждена, что то, что сказал мосье Корделье, не пустое утешение. Ее гораздо больше беспокоили собственные тайные сомнения — как воспринял ее поступок дядя Проспер. Но она гнала их прочь. Она уверена, что дядя приветствует случившееся: весь город, судя по намекам мосье Корделье, правильно оценивает это событие и понимает его подоплеку. Но на вилле Монрепо думают не так, как в городе. У Симоны не выходят из головы тихие злые слова мадам, ее яростные несправедливые утверждения, будто только ненависть к дяде Просперу могла толкнуть на такое дело, и речи мадам черной паутиной опутывают чистую веру Симоны.
Но вот наконец телефонный звонок. В мгновение ока Симона была у телефона. Да, это дядя Проспер. Он поздоровался, спросил, как там поживают на вилле Монрепо, разговаривал, как всегда. Симона была разочарована, она ждала каких-то особенных слов. Но, может быть, он считал неудобным открыто говорить по телефону, который контролируется немцами? Он ограничился несколькими общими фразами и попросил к телефону мадам.
Симона позвала мадам, но мадам была уже тут. Забившись в угол прихожей, Симона ловила ее реплики. Мадам говорила односложно, из ее ответов мало что можно было понять, да и весь разговор был очень короток. Симона надеялась, что мадам расскажет, о чем шла речь.
— Как дядя? Все у него в порядке? — спросила она наконец сама, так как мадам молчала.
— Да, все в порядке, — ответила мадам.
После обеда, не дождавшись возвращения дяди, Симона, как обычно, стала собираться в город за покупками. Она прекрасно знала, как неодобрительно отнеслась бы к этому мадам, но ее это не остановило. Она надела зеленое полосатое платье, взяла корзину и велосипед.
Въезд в город охранялся заставой, у которой стоял немецкий патруль. Симона была потрясена. Она знала, что боши пришли, мысленно готовилась к этому бесчисленное множество раз, но когда увидела их перед собой, испугалась, как будто на нее обрушилось что-то неожиданное. Солдаты, молодые парни с тупыми, безразличными лицами, едва взглянули на Симону; для пешеходов проход был свободный. Симону пропустили беспрепятственно.
Она шла по городу как во сне. Повсюду были немецкие солдаты. Рассудком Симона понимала, что эти солдаты — живая действительность, но все ее существо отказывалось этому верить, пугающее чувство нереальности всего, что она видела, не оставляло ее. Не может этого быть, чтобы они были здесь, в городе, расхаживали по улицам и громко разговаривали на своем непонятном, варварском языке.
У Симоны не было заранее сложившегося представления, какие они, эти вторгшиеся победители; ей только казалось, что то злое, что они несут с собой, должно и внешне выразиться в чем-то отталкивающем и страшном. Она готовилась увидеть бездушные, жестокие лица, готовилась услышать о бесчисленных злодеяниях. Но все было иначе. Боши оказались молодыми, бесцеремонными и довольными собой людьми — только и всего. Симона, обладавшая здравым смыслом, видела это, и все же чужеземцы казались ей нестерпимо наглыми. Само их присутствие было нестерпимой наглостью, и эта наглость обжигала Симону болью и яростью.
Боши расположились, как дома. В бесцеремонно расстегнутых рубашках они шатались по городу, посиживали перед отелями, на площадях, на террасах кафе, они смеялись и громко разговаривали и поливали себя водой из фонтанов на площади Совиньи. И эта непринужденность, эта развязность бошей, чувствующих себя в Сен-Мартене как дома, казались Симоне страшнее самой ужасной грубости, какую она только могла себе представить.
Открылись кое-какие магазины. Но жители Сен-Мартена, показывавшиеся на улицах, робко жались к стенам домов, разговаривали вполголоса, торопливо пробегали по тротуарам, спеша поскорее попасть домой, — они казались чужими в собственном городе. Бродя по знакомым извилистым, горбатым улочкам, Симона чувствовала себя здесь вдвойне чужой, чужой бошам, и чужой горожанам, от которых ее отделяла ее тайна; больше того — ей казалось, что горожане смотрят на нее, как на чужого, непонятного им человека.
Читать дальше