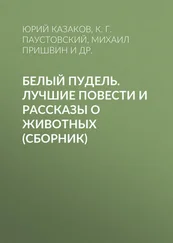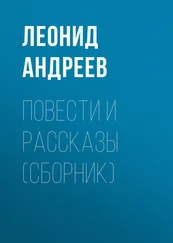– Пришли музыканты! Господи, музыканты пришли! – кричал он, разыскивая отца, или мать, или кого-нибудь, кто отнесся бы к этому приходу с надлежащею серьезностью.
Отец и мать сидели в саду, в беседке, густо завитой диким виноградом, и молчали; но красивая голова матери лежала на плече у отца, а отец, хотя обнимал ее, но был очень серьезен и приходу музыкантов не обрадовался. Да и оба они отнеслись к этому приходу с непостижимым равнодушием, вызывающим скуку. Впрочем, мама пошевелилась и сказала:
– Пусти. Мне надо идти.
– Так ты помни, – произнес отец что-то непонятное, но отдавшееся в сердце Юры легкой сосущею тревогой.
– Оставь. Как не стыдно, – засмеялась мать, и от этого смеха Юре стало еще неприятнее, тем более что отец не засмеялся, а продолжал хранить все тот же серьезный и печальный вид Гулливера, тоскующего о родной стране.
Но скоро все это позабылось, ибо во всей широте своей загадочности и великолепия наступил удивительный праздник. Повалили гости, и уже не оставалось места за белым столом, который только сейчас был пуст; зазвучали голоса, смех, какие-то веселые шутки, и музыка заиграла. И на пустынных дорожках сада, где раньше бродил один только Юра, воображая себя принцем, разыскивающим спящую царевну, появились люди с папиросами и громкой свободной речью. Первых гостей Юра встречал у парадного, каждого рассматривал внимательно, а с некоторыми успевал познакомиться и даже подружиться – по дороге от прихожей до стола. Так успел он подружиться с офицером, которого звали Митенькой, – большой человек, а звали Митенькой, сам сказал. У Митеньки была толстая кожаная, холодная, как змея, сабля , которая будто бы не вынималась, но это Митенька солгал: она была только перевязана возле ручки серебряным шнурком, а вынималась прекрасно; и так было обидно, что глупый Митенька, вместо того чтобы всегда носить саблю с собой, поставил ее в передней, в угол, как палку. Но и в углу сабля стояла совсем особенно, сразу было видно, что она – сабля. И еще неприятно было то, что с Митенькой пришел другой, уже знакомый офицер, которого, очевидно, для шутки, также называли Юрием Михайловичем. Этот ненастоящий Юрий Михайлович приезжал уже к ним несколько раз, однажды даже верхом на лошади, но всегда перед тем самым часом, когда Юрочке нужно было ложиться спать. И Юрочка ложился, а ненастоящий Юрий Михайлович оставался с мамой, и это было тревожно и печально: мама могла обмануться. На настоящего Юрия Михайловича он не обращал никакого внимания; и теперь, идя рядом с Митенькой, он точно совсем не чувствовал своей вины, поправлял усы и молчал. Маме он поцеловал руку, и это было противно, но глупый Митенька сделал то же самое и этим привел все в порядок.
Но скоро гости стали появляться в таком количестве и такие разнообразные, как будто они падали прямо с неба. И некоторые падали за стол, а другие прямо в сад: вдруг на дорожке появилось несколько студентов с барышнями. Барышни были обыкновенные, а у студентов на белых кителях у левого бока были прорезаны дырочки – как оказалось, для шпаг, то есть для сабель. Но сабель они не принесли, должно быть, от гордости, – они все были очень гордые; а барышни накинулись на Юру и стали с ним целоваться. Потом самая красивая барышня, которую звали Ниночкой, взяла Юру на качели и долго качала, пока не уронила. Он очень больно ушиб левую ногу около колена и даже зазеленил на этом месте белые штанишки, но, конечно, плакать не стал, да и боль очень скоро девалась куда-то. В это время отец водил по саду какого-то важного, совсем лысого старика и спросил Юрочку:
– Ушибся?
Но так как старик тоже улыбнулся и тоже что-то говорил, то Юрочка не поцеловал отца и даже не ответил ему, а вдруг сразу сошел с ума: стал визжать от восторга и вообще что-то выделывать. Если бы у него имелся большой, в целый город, колокол, то он ударил бы в колокол, а за неимением его влез на высокую липу, которая стояла у самой террасы, и начал красоваться. Гости внизу смеялись, а мама кричала, а потом вдруг заиграла музыка, и Юра уже стоял перед самым оркестром, расставив ноги и по старой, давно брошенной привычке заложив палец в рот. Звуки все сразу били в него, рычали, гремели, ползали, как мурашки по ногам, и трясли за челюсть. Было так громко, что на всей земле остался один только оркестр – все остальное пропало. У некоторых труб от громкого рева даже расползлись и развернулись медные концы: интересно было бы сделать военную каску из трубы.
Читать дальше
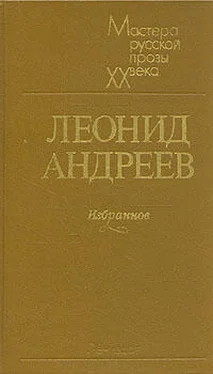
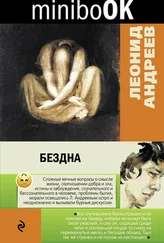




![Леонид Андреев - Повести и рассказы [litres]](/books/401954/leonid-andreev-povesti-i-rasskazy-litres-thumb.webp)