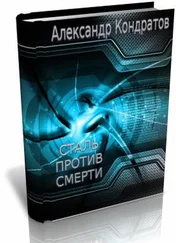Потом Ондржей увидел, как юноша упал, раненный несколькими пулями. Командир с трудом нагнулся, расстегнул пояс, привязал им Володю к себе и едва дотащил его до берега.
Все трое потом встретились в полевом лазарете, — Ондржею осколком гранаты оцарапало лицо, советский офицер был ранен в ногу. Он еле доковылял до носилок, на которых лежал бледный как мел Володя.
— Володя, — сказал он, нагибаясь к умирающему, — Володенька, ты слышишь меня?
Но у Володи уже не было сил посмотреть на него или улыбнуться. Он прикрыл глаза, как усталый человек, закончивший свою работу.
Так восемнадцатилетний Володя написал кровью на льду свои последние «тихие стихи». Товарищи плакали, опуская его в могилу. И это были хорошие слезы, после них рождались новые подвиги.
КАК БЛАЖЕНА ПЕРЕСТАЛА ВЕРИТЬ В БОГА
Блажена жила второй год в Равенсбрюкском концентрационном лагере. В ней нельзя было узнать прежнюю цветущую молодую женщину, полную любви. Ее изменили не только хефтлинговский полосатый, как зебра, кринолин и неуклюжие деревянные башмаки, в которых она вначале еле двигалась, не только гладко зачесанные волосы, как полагалось заключенным женщинам будто бы из гигиенических соображений (на самом же деле для того, чтобы узницы выглядели как можно безобразнее и не казались привлекательнее надзирательниц с лошадиными лицами, ходивших в эсэсовских фуражках). Дело было даже не в землисто-желтом цвете лица и не в худобе. Перемена была глубже, она произошла во всем ее существе.
Прежде Блажена была верующей. Ее простая женская душа жила в полном согласии с христианскими праздниками рождества и воскресения, врожденная доброта — с учением о любви к ближнему. Блажену очаровывала поэзия католического календаря, этот венок ежегодных праздничных обрядов, проникнутых в деревне такой задушевной прелестью. Она и бабушка по-прежнему ходили к рождественской заутрене, хотя вместо восковой свечи дорогу им освещал уже электрический фонарик; старинные песнопения трогали ее так же, как стихи в школе; озаренная огнями церковь и полуночное церковное пение влекли ее, как мистерия; потом приходила весна с поющими ручейками; в страстную пятницу, когда колокольный звон достигал самого Рима, она весело смеялась с детьми на маленьком шахтерском кладбище около церкви святой Маркеты, а в страстную субботу шла по деревне с праздничным крестным ходом в честь воскресения Христова. Она с малых лет привыкла проводить время под открытым небом, на солнце, шалить с козлятами, носиться, как жеребенок, по скошенным лугам, а когда на жнивье становилось ветрено, пускать вместе с мальчишками змея и посылать ему «письма» в вышину. О, боже! Вместо веселого дымка, пахнущего картошкой, которая печется в золе костра, сейчас к ней доносится ужасный сладковатый чад из равенсбрюкского крематория, а если ветер чужой стороны по ошибке и принесет заключенным через высокую стену какой-нибудь из ласковых деревенских запахов — дыхание скошенного луга, аромат смолы, — тем хуже, тем хуже. Он томит тоской о вольном чешском крае, о лидицкой долине, о всех милых и близких, от которых оторвали Блажену. Когда она училась в школе, то возила Вену к матери в поле. Мать давала ребенку грудь и опять шла работать, а Блажена охраняла сестричку в холодке под ольхой и орешником и веточкой отгоняла мух, чтобы они не кусали девочку. Чтобы ее никто не ужалил! Где-то теперь Вена? Она написала одну открытку из Польши — и с тех пор ничего. А Вацлав с отцом даже и не написали ни разу. И родители Вацлава, которые жили в Буштеграде и иногда писали Блажене, не обмолвились о нем ни словечком. Он как сквозь землю провалился. Но Блажена надеялась, что отец и Вацлав находятся тоже где-нибудь в Польше.
Уже тогда, когда лидицкие матери поняли безбожную ложь, которой им так хотелось верить, будто дети, увезенные на грузовиках, будут ждать их в лагере, а между тем о детях не было ни слуху ни духу, словно их вообще не существовало, — уже тогда в душе Блажены что-то надломилось, и она, пересиливая себя, читала «Отче наш» бесконечное число раз, не имея сил уснуть от усталости в первую ночь на тюфяке в штубе [71] Здесь: барак (от нем. die Stude — комната).
. «Остави нам долги наши…» — но ведь мы ничего не должны! — «…яко же и мы оставляем должникам нашим…» — нет, Блажена ничего не прощала нацистам, не могла и не хотела простить. И как глух и равнодушен был бог там, в беспредельной вышине, если не внимал отчаянному плачу невинных и позволял совершать грехи, вопиющие к небу!
Читать дальше