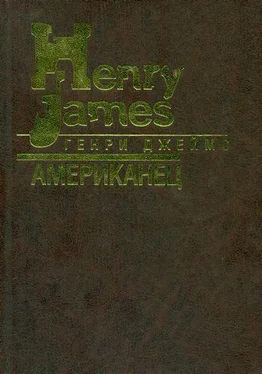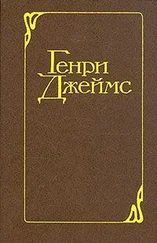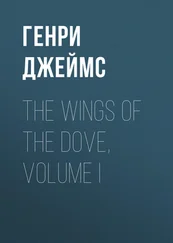— Да, конечно, здесь гораздо интересней, — согласился Ньюмен. — Но не слишком ли это дорогое удовольствие для бедной девушки?
— Да, разумеется, я поступаю дурно, в этом нет сомнений, — проговорила мадемуазель Ноэми. — Но чем зарабатывать себе на хлеб, как некоторые девушки, надрываясь над шитьем в четырех стенах, в темных каморках, я лучше брошусь в Сену.
— Ну зачем такие крайности? — заметил Ньюмен. — Ваш отец рассказывал вам о моем предложении?
— О вашем предложении?
— Он хочет, чтобы вы вышли замуж, и я обещал ему предоставить вам возможность заработать себе на dot. [49] Приданое (франц.).
— Он сказал мне об этом, и, как вы сами видите, я этим уже распорядилась. Но почему вас так беспокоит мое замужество?
— Меня беспокоит ваш отец. Я сдержу свое обещание. Сделайте то, что сможете, и я куплю все, что вы напишете.
Минуту-другую мадемуазель Ноэми стояла, задумавшись и глядя в пол. Потом подняла глаза на Ньюмена.
— Какого мужа можно получить за двенадцать тысяч франков? — спросила она.
— Ваш отец говорит, у него на примете есть очень хороший молодой человек.
— Из бакалейщиков, мясников, жалких mâitres de cofés. [50] Владельцы кафе (франц.).
Нет уж! Я или вообще не выйду замуж, или сделаю блестящую партию.
— Вряд ли стоит быть слишком привередливой, — сказал Ньюмен. — Больше ничего посоветовать не могу.
— Напрасно я вам все это выложила! — воскликнула мадемуазель Ноэми. — Какая польза об этом говорить! Просто само собой вырвалось.
— А какой пользы вы ждали?
— Да никакой, заболталась, вот и все.
Ньюмен внимательно посмотрел на нее.
— Что ж, может быть, картины вы пишете плохие, но все равно для меня вы слишком умны. Я вас не понимаю. До свидания, — и он протянул ей руку.
Но она не протянула ему свою, не стала прощаться. Она отвернулась и боком села на диванчик, опустив голову на руку, сжимавшую барьер, который ограждал картины. Ньюмен еще некоторое время смотрел на нее, потом повернулся и пошел прочь. Он понял ее куда лучше, чем в том признался. Вся эта сцена была прекрасной иллюстрацией к словам ее отца, назвавшего дочь откровенной кокеткой.
Когда Ньюмен рассказал миссис Тристрам о своей безуспешной попытке нанести визит мадам де Сентре, она стала убеждать его не расстраиваться, а осуществить летом свой план «повидать Европу», чтобы осенью вернуться в Париж и спокойно обосноваться на зиму.
— Мадам де Сентре никуда не денется, — успокаивала его миссис Тристрам. — Она не из тех женщин, кто готов выходить замуж хоть каждый день.
Ньюмен воздержался от заверений, что непременно возвратится в Париж, он даже обмолвился насчет Рима и Нила и не проявил какой-то особой заинтересованности в вопросе о том, останется ли мадам де Сентре вдовой и впредь. Такая сдержанность совсем не вязалась с его всегдашней откровенностью, и, возможно, ее следует рассматривать как проявление у нашего героя начальной стадии той болезни, которую обычно именуют «таинственным влечением». Дело в том, что в душу Ньюмена глубоко запал взгляд глаз, таких сияющих и в то же время таких кротких, и он не желал бы мириться с мыслью, что никогда больше в эти глаза не заглянет. Он поделился с миссис Тристрам многими другими соображениями, более или менее значительными — судите, как хотите, — но о вышеуказанном обстоятельстве предпочел промолчать. Ньюмен сердечно распрощался с месье Ниошем, заверив его, что сама Мадонна в голубом плаще могла бы присутствовать при его свидании с мадемуазель Ноэми — за себя, во всяком случае, он ручается, — и оставил старика любовно поглаживающим нагрудный карман в приступе радости, которую не смогла бы омрачить даже жесточайшая неудача, сам же снова отправился путешествовать со своим обычным видом фланирующего бездельника, но, как всегда, сосредоточенный и целеустремленный. Казалось, не было человека, который проявлял бы меньше торопливости, но при этом не было и человека, который за столь короткое время успевал бы достичь большего. Ньюмен обладал неким практическим инстинктом, прекрасно помогавшим ему в трудном ремесле туриста. По наитию находил дорогу в незнакомых городах, а если считал нужным обратить на что-то свое благосклонное внимание, увиденное откладывалось в его памяти навсегда, из разговоров же с иностранцами, в языке которых он вроде бы не понимал ни слова, извлекал исчерпывающие сведения о том, что хотел узнать. Его интерес к фактам был неистощим, и хотя многое из того, что он записывал, обычному сентиментальному путешественнику представилось бы удручающе сухим и бесцветным, внимательное рассмотрение заметок Ньюмена позволило бы заключить, что и его воображение можно поразить. В прелестном городе Брюсселе — это была его первая остановка после отъезда из Парижа — он задавал бесконечные вопросы о конке и испытывал большое удовольствие при встрече в Европе со столь знакомым ему символом американской цивилизации, но при этом на него произвела огромное впечатление и прекрасная готическая ратуша, и он стал прикидывать, нельзя ли возвести что-либо подобное в Сан-Франциско. Он с полчаса простоял на запруженной народом площади перед величественным зданием, подвергаясь риску попасть под колеса и слушая бормотание беззубого чичероне, который на ломаном английском излагал трогательную историю графов Эгмонта и Хорна, [51] Граф Эгмонт Ламораль (1522–1588) — правитель Фландрии. Он и граф Хорн Филипп де Монморанси подвергались гонениям испанского двора за приверженность принцу Оранскому. Оба были казнены. Смерть встретили героически.
и по причине, известной ему одному, записал имена двух упомянутых джентльменов на обратной стороне старого письма.
Читать дальше