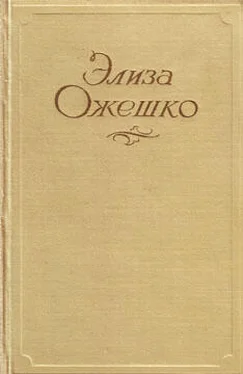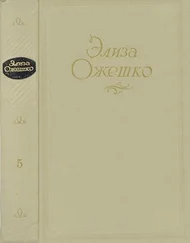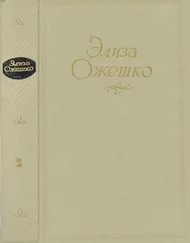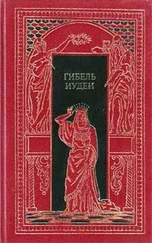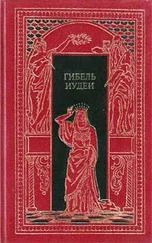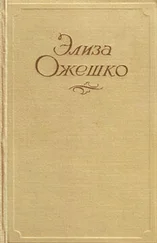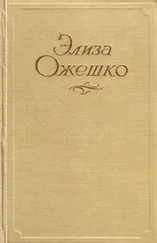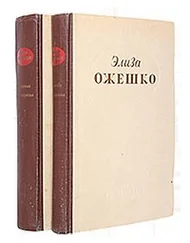Могучая Мадзя, держа одной рукой своего пленника, другой поднесла письмо к глазам. При всей силе ее характера руки у нее дрожали от волнения. Получив в свое время кое-какое образование, она разбирала рукописный шрифт довольно бегло. К тому же у Капровского почерк был размашистый, крупный. В несколько минут она пробежала коротенькое письмо и узнала из него о страшном несчастье дочери. Это письмо раскрыло ей все. Все стало ясно… У нее вырвался душераздирающий крик:
— Боже мой! Боже мой! Боже мой милосердый!
Глубокое страдание исказило ее лицо, глаза налились кровью и наполнились слезами. Со всего размаха ударив мальчика, она схватила его за шиворот и стала колотить. Гнев ее, возбуждаемый страданием, казалось, не имел предела. Вопреки своей привычке, Мадзя не кричала. Стиснув зубы, она вцепилась в несчастного посланца, таскала его за волосы, драла за уши, рвала на нем одежду. Она могла бы убить его, если б не исключительная увертливость Юрка, который ужом извивался в ее руках, и не вмешательство Рузи. Девушка ворвалась на арену боя, не боясь подвергнуть опасности свою собственную спину, и схватила мать за руки со всей своей молодой, от нее же унаследованной силой. Больше никто не прибежал на крик мальчика. Мужчины были в овине или в поле, а работницы так привыкли к скандалам своей хозяйки, что их трудно было чем-нибудь удивить. Но Рузя сражалась с матерью с неустрашимой стойкостью, и когда ей, наконец, удалось вырвать Юрка из ее рук, он стрелой метнулся к воротам. Тогда пани Бахревич хотела броситься с кулаками на Карольку, которая, продолжая горько рыдать, сидела на траве. Но Рузя отважно встала между матерью и сестрой. Выпрямившись и заслонив ее своим полным телом, она крикнула:
— Опомнитесь, мама! Не устраивайте скандала на дворе. Я уже обо всем догадалась и говорю вам, что не дам в обиду Карольку. Достаточно, что ее обидел этот подлый обманщик. И хотя это кладет и на меня пятно… и я, может, из-за этого замуж не выйду, мне жаль Карольцю, и я не могу сердиться на нее.
Разразившись слезами, она наклонилась, обняла сестру и, подняв с земли, повела ее, шатающуюся, еле живую, к дому.
— Глупая ты, — поддерживая и целуя сестру в лоб, шептала она, — ну и глупая! Чтобы так, всей душой, поверить…
— Рузя, — еле слышно ответила Карольця, — он мой идеал, мой ангел…
— Ну его к черту! — гневно крикнула сестра и прибавила шагу. — Удерем-ка от мамы… Закроемся в комнате на ключ, чтобы она не ворвалась, и там ты мне все расскажешь…
Ее глаза, полные слез искреннего сочувствия, заблестели от любопытства. Между тем Мадзя носилась по усадьбе, заглядывала в батрацкую хату, в хлевы, на гумно и кричала попадавшимся ей навстречу людям:
— Где пан? где пан?
В своем возбуждении и растерянности она забыла, что муж поехал на «сессию» экономов и вернется только вечером.
Батраки и их жены пожимали плечами и шептались, что, видно, Бахревичиха совсем помешалась. Действительно, сраженная горем, кипя от гнева, она казалась безумной. Ворвавшись в дом, она бог знает что сделала бы с Каролькой, если бы не Рузя. Та заперлась с сестрой на ключ и через закрытую дверь битых два часа неутомимо вела с матерью переговоры. Переговоры эти отнюдь не были похожи на те, которые ведутся в законодательных собраниях европейских государств. Совершенно иными были слова и жесты, которыми обменивались мать и дочь. Однако неустрашимость Рузи привела к тому, что спустя два часа Мадзя перестала трясти дверь, браниться и кричать, а бросилась на пол у порога и стала умолять Рузю, чтобы та хоть на одно мгновенье показала ей Карольцю.
— Может, ее уже и в живых нет… — причитала Мадзя. — Господи Иисусе Христе, может тот подлец совсем ее загубил…
— Карольця еле жива, — кричала в ответ Рузя, — и если вы будете мучить ее, то, наверное, она тут же кончится…
— Рузя, Рузсчка, пусти меня к ней! Она с утра ничего не ела… Ой, бедная моя, бедная! Надо ей немного понтаку дать. Ну, открой дверь, не то, клянусь Христом богом, позову батраков и велю выломать… Ты что же, запрещаешь мне мое собственное дитя повидать и утешить?
Рузя знала, что теперь уже можно спокойно открыть дверь, потому что у матери, как всегда, приступ безграничного гнева сменился приступом безграничной нежности.
Когда дверь открылась, пани Бахревич ринулась в комнату дочерей и схватила Карольку, пытавшуюся встать перед ней на колени, в свои могучие объятия. Девушка действительно была в жалком состоянии. Захлебываясь от слез, пани Бахревич со стоном подняла дочь и, прижав к груди, покрыла поцелуями ее лицо и волосы.
Читать дальше