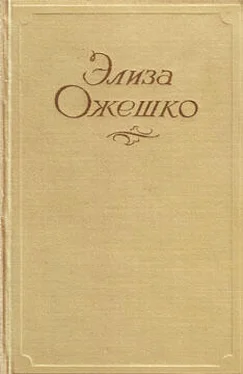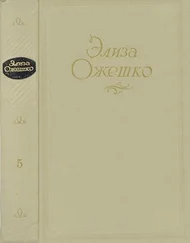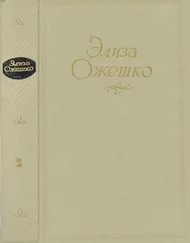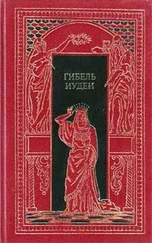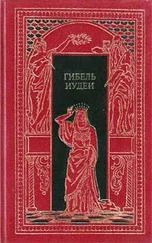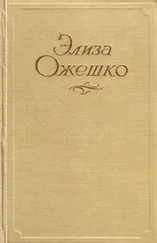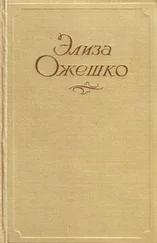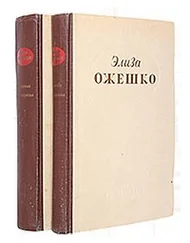Он буквально пожирал глазами изящную, действительно красивую Зоську. Пани Хлевинская с дочерьми тоже шла к вечерне. Хотя они и принадлежали к числу тех особ, которые носят шляпы, но одевались все же скромно и важности на себя не напускали. Михал старался попасться им на глаза возле костела, чтобы отвесить поклон, хотя и очень низкий, но не без некоторой претензии на элегантность. Из-под скромной шляпки на него шаловливо и ласково поглядывали синие глаза подростка, а пани Хлевинская здоровалась с Романо́вой, приветливо кивнув головой. Между ней и кухаркой была большая разница в общественном положении, но Хлевинская еще не совсем забыла, что сама была дочерью бедного извозчика и что муж ее к моменту помолвки занимал весьма скромное место, будучи всего лишь помощником мастера. Романо́ва с высоко поднятой головой, чинно, степенным шагом поднималась по ступеням. Ею овладевало чувство неимоверной гордости. Вот кто она! Лучшая прислуга во всем Онгроде, служит, в богатых домах, да еще сын у нее такой замечательный, и жена почтенного мастера относится к ней, как к равной. Вот она какая!.. Однако в костеле она опускалась на колени перед боковым приделом и без молитвенника (читать она не умела) молилась смиренно, страстно, с глазами, полными слез, громко при этом вздыхая; она колотилась лбом о церковные плиты или ложилась на них, раскинув руки наподобие креста. «Отче наш, иже еси на небесех», — начинала она, но судорожные всхлипывания то и дело прерывали ее молитву. Распростертая на полу, она приподнимала свое темное, сморщенное и наивное лицо и глазами, полными жгучих слез, ярко блестевших при свете восковых свечей, смотрела вверх с такой глубокой верой, с такой страстной мольбой, что взгляд этот, казалось, мог пробить насквозь купол костела и умчаться к самому небу, усеянному вечерними звездами. Михал иногда становился позади матери и, с явной рассеянностью бормоча молитвы, украдкой озирался по сторонам, улыбался и кивал головой, здороваясь со знакомыми мужчинами и женщинами; иной раз он опускался на колени, молился с не меньшим усердием, чем мать, бил себя кулаком в грудь и даже немножко плакал… В первом случае можно было с уверенностью сказать, что неделю-две или даже три он ежедневно будет приходить после работы к матери, играть с ней и горничной Розалией в карты, ласкать Жужука и лепить из глины для Зоей Хлевинской кошек и петушков, окрашивая их в соответствующие цвета; но когда он с большим пылом вполголоса бормотал молитвы и бил себя в грудь с такой силой, что в костеле даже эхо раздавалось, — это был зловещий признак. Тогда, должно быть, его охватывали неодолимые искушения, от которых он защищал себя горячей молитвой и покаянием. В этих случаях исчезала обаятельная улыбка, придававшая его лицу юношескую прелесть, а манящие, серые, помутневшие теперь глаза избегали людских взглядов; он становился угрюмым и часто, без всякой видимой причины, впадал в гнев. Бурлило в нем что-то, с чем он пытался бороться; у Романо́вой дрожали губы, она быстро моргала веками и, скрестив на груди руки, непрерывно и напряженно думала об узком грязном переулке, в середине которого слабо светилась застекленная дверь с задернутой изнутри кисейной занавеской.
* * *
По вечерам эта дверь и находившееся рядом с ней окно светились, как два мигающих желтых глаза. Поодаль, на расстоянии нескольких десятков шагов, такой же тусклый, неровный свет отбрасывал уличный фонарь. Это был единственный фонарь в переулке. Впрочем, весь переулок с двумя рядами расположенных далеко друг от друга домишек и разделявших их длинных заборов был погружен в беспросветную тьму, и лишь с трудом можно было различить наглухо закрытые молчаливые домики, а заборов и вовсе не было видно. У фонарного же столба поблескивали лужи и мокрые камки мостовой. У стеклянной двери, слабо освещенной изнутри желтым светом, был высокий деревянный подгнивший порог.
На пороге, в темноте, под дождем, свернулась клубком небольшая черная собака с белыми подпалинами. Ощетиня мокрую шерсть, она дрожала от холода и к тому же, вероятно, сильно проголодалась, так как лежала здесь с самого утра, испуганно отскакивая в сторону каждый раз, когда кто-нибудь входил в дверь или выходил оттуда. Но как только дверь захлопывалась, она снова укладывалась на порог. Выбранное ею место было весьма неудобным, так как не защищало ее ни от дождя, не прекращавшегося весь день, ни от воды, струей стекавшей с крыши. Тем не менее собака не уходила отсюда и только порой вздыхала или, задрав кверху морду, отрывисто и жалобно выла, а иногда настороженно прислушивалась к раздававшимся за дверью голосам людей, будто старалась уловить среди них знакомый голос.
Читать дальше