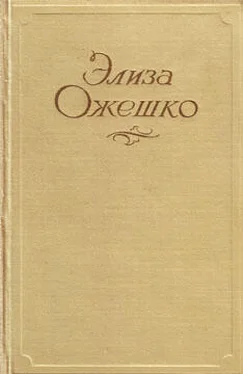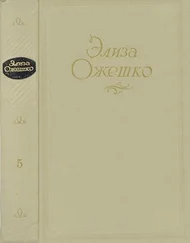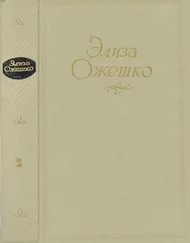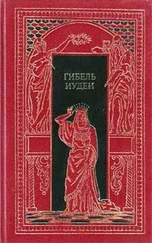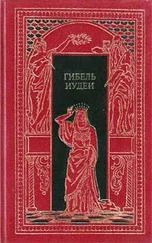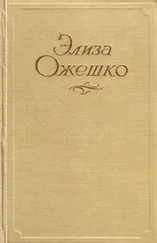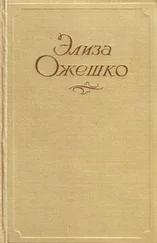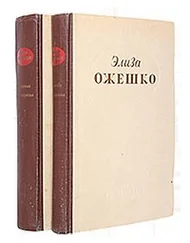— Ну, пошли, сынок!
— К папке?
— Нет, на огород, — ответила мать.
Отправляясь на огород или в поле, Федора всегда брала сына с собой. Да и куда же было девать его? Оставлять в хате? Но хата, когда все уходили, запиралась, а томить ребенка взаперти ей не хотелось. Бросить сына во дворе одного, чтобы он, как бездомная собачонка, ползал в крапиве, тоже было жалко. Вот она и таскала его повсюду за собой.
Однако Федоре и в голову не приходило, снаряжая сына в путь-дорогу, заняться его туалетом. Процедура умывания совершалась с неукоснительной точностью раз в неделю, в воскресное утро, и уж тогда к делу приступали необычайно энергично, привлекая на помощь лохань с водой и гребень огромной величины. Не обходилось, конечно, без криков как сына, так и матери, а порой и вмешательства «дзяги». Сегодня же была пятница, и, следовательно, рубашонка, лицо и тело мальчика не мылись шестой день и, по правде говоря, порядком загрязнились. Но что за беда! Уцепившись за материнский подол, Тадеуш бежал по двору и забавно перебирал маленькими ножками, стараясь не отставать. По пути все привлекало его внимание: петух, который, с шумом развернув огненные крылья, протяжно запел; смешные ужимки кошки, забравшейся на соломенную крышу; вереница уток, которые степенно шествовали по траве, низко опустив широкие клювы; голубь, круживший над батрацкой хатой; индюшка, сзывавшая индюшат в заросли сирени и боярышника, и старый дворовый пес Рубин с большим мохнатым хвостом. Доверчиво потершись о юбку Федоры, он с опущенной головой поплелся следом за матерью и сыном, великодушно позволяя ребенку гладить свою густую, мокрую от росы шерсть.
Алмазная роса еще сверкала на траве и кустах усадебного двора, который был погружен в тишину и, хотя его населяли птицы и животные, казался пустынным. Отсюда уже все ушли на работу. Широкие ворота хлева, конюший и овинов были плотно закрыты, лишь кое-где из трубы поднимался столб дыма, позолоченный солнцем, да оставшаяся дома хозяйка, выйдя на порог, выплескивала из ведра помои или мыльную воду на росистую траву или громко сзывала кур, чтобы бросить им горсть отрубей, каким-то образом уцелевших с прошлого года. На крепкие, наглухо запертые надворные постройки, на росистую траву, из которой торчали жесткие стебли лопуха, чертополоха и хрена, на отцветшую сирень и цветущий шиповник, на белые дорожки, бегущие в разные стороны среди зелени, низкие плетни, окружавшие двор, ниспадал, играя мириадами искр, огромный яркозолотой полог, сотканный из солнечных лучей. Неподвижный воздух пел от незримого движения листьев и незримых среди листвы птиц и насекомых.
— Господь милостив, погоду послал хорошую, — промолвила Федора, торопясь на огород.
Тадеуш ничего не ответил, он не раздумывал над тем, хороша ли погода. Он только чувствовал ее всем своим существом, и это ощущение наполняло его блаженством, изливаясь в необузданной радости и жажде движений. Отпустив подол материнской юбки, Тадеуш брыкался, как жеребенок; катался по траве; а когда мать уходила вперед, он, крича и смеясь, бросался ей вдогонку; его льняные вихры развевались по ветру, а в глазах сверкали огоньки, зажженные солнцем и счастьем. Миновав двор и выйдя на дорогу, обсаженную тополями, они внезапно остановились перед часовенкой — простой деревянной нишей на высоком каменном фундаменте — и благоговейно притихли. У Тадеуша благоговение выражалось в том, что он непомерно вытаращил глаза и широко разинул вымазанный землей рот. Но на лице его матери были написаны набожность и смирение.
В часовенке, убранной бумажными и живыми цветами, стояла старинная статуя богоматери, грубо вырезанная из дерева, с ярко раскрашенным лицом. Над головой богоматери сиял венец из посеребренной жести, и вся она с головы до пят была закутана в плащ из алого бархата, по краям обшитый золотистой тесьмой. Часовенка возвышалась над дорогой, богородица из своей ниши смотрела на усадьбу, и не найти там такого уголка, откуда не было ее видно.
Федора, покорно склонив голову, перекрестилась три раза и что-то тихо прошептала; затем, нагнувшись, взяла Тадеуша на руки и поднесла к нише.
— Боженька, — как-то боязливо проговорил ребенок.
— Ага! Перекрестись, сынок, — ответила мать.
Но Тадеуш не умел еще креститься сам, поэтому она взяла его руку в свою и, перенося ее с потного лба на обнаженную грудь мальчика, приговаривала с мольбой и смирением в голосе:
— Во имя отца и сына…
Читать дальше