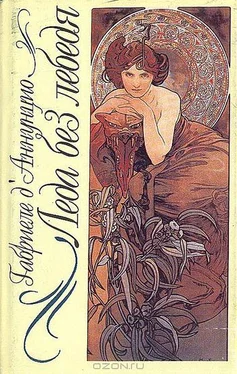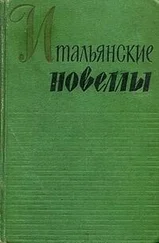Я страдал от невыразимой пытки. Безумное желание все знать терзало мне душу; реальные образы приводили меня в отчаяние. Озлобление против Джулианы все более и более обострялось; и воспоминание о недавних сладостных переживаниях, воспоминание о брачном ложе в Виллалилле, все то, что осталось от нее у меня в крови, питало зловещее пламя. Ощущение, рождавшееся благодаря близости к телу Джулианы, специфическая дрожь указывали мне на то, что я уже во власти хорошо известной мне лихорадки чувственной ревности, и, чтобы не поддаться вспышке ненависти, мне нужно было бежать. Но воля моя, казалось, была парализована; я не владел собою. Я оставался на месте, прикованный двумя противоположными силами: отвращением и физическим влечением, вожделением, смешанным с брезгливостью, каким-то скрытым контрастом ощущений, которого я не мог побороть, потому что он гнездился в самых глубинах моей животной сущности.
Другой, с того мгновения, как появился, все время стоял передо мной. Был ли то Филиппо Арборио? Угадал ли я? Не ошибся ли?
Я неожиданно повернулся к Джулиане. Она посмотрела на меня. Внезапный вопрос остановился у меня в горле. Я опустил глаза, наклонил голову и с той же судорожной напряженностью, которую испытал бы, отрывая от тела кусок живого мяса, решился спросить:
— Имя этого человека!
Мой голос дрожал, был хриплый и причинял боль мне самому.
При этом неожиданном вопросе Джулиана вздрогнула, но молчала.
— Не отвечаешь? — настаивал я, заставляя себя подавить гнев, который уже готов был овладеть мною, тот слепой гнев, который уже прошлой ночью в алькове налетел на мою душу как вихрь.
— О Боже мой! — мучительно простонала она, отстраняясь и пряча лицо в подушку. — Боже мой, Боже мой!
Но я хотел знать; я хотел вырвать у нее признание во что бы то ни стало.
— Помнишь, — продолжал я, — помнишь ли ты то утро, когда я неожиданно вошел в твою комнату, в первых числах ноября? Помнишь? Вошел сам не знаю почему, потому что ты пела. Пела арию из «Орфея». Ты собиралась уходить. Помнишь? Я увидел книгу на твоем письменном столе, открыл ее, прочел на заглавном листе посвящение… Это был роман «Тайна». Помнишь?
Она продолжала лежать на подушке, не отвечая. Я наклонился к ней. Меня пронизывала дрожь, похожая на ту, что предшествует лихорадочному ознобу. Я добавил:
— Это, может быть, он?
Она не отвечала, но поднялась отчаянным движением. Казалась безумной. Хотела было броситься на меня, потом сдержалась.
— Сжалься! Сжалься! — вырвалось у нее. — Позволь мне умереть! То, что ты заставляешь меня переживать, хуже всякой смерти. Я все перенесла, все могу перенести, но этого не могу, не могу… Если я буду жить, это будет для нас непрекращающейся мукой, и каждый день будет все более и более ужасным. И ты возненавидишь меня: тяжесть твоей ненависти задавит меня. Знаю, знаю. Я уже почувствовала ненависть в твоем голосе. Сжалься! Дай мне лучше умереть.
Казалась безумной. Чувствовала непреодолимое желание броситься на меня, но, не смея приблизиться, ломая руки, чтобы сдержаться, судорожно извивалась всем телом. Но я схватил ее за руки, притянул к себе.
— Стало быть, я ничего не узнаю? — сказал я почти у самых ее губ, становясь в свою очередь безумным, возбуждаемый жестоким инстинктом, делавшим грубыми мои руки.
— Я люблю тебя, всегда любила тебя, всегда была твоей, плачу этим адом за минуту слабости, понимаешь? За минуту слабости… Это правда. Разве не чувствуешь, что это правда?
Еще один светлый миг; и потом — действие импульса, слепого, дикого, неудержимого…
Она опрокинулась на подушку. Мои губы заглушили ее крик.
XVII
Эти бурные объятия заглушили многое. «Дикарь! Дикарь!..» Я снова видел немые слезы в глубине глаз Джулианы; снова услышал хрипение, конвульсивно вырвавшееся из ее груди, хрипение агонизирующего. В душе моей пробежала волна той печали, которая не походила на иную печаль, нависшую надо мной после этого. «Да, поистине — дикарь!» Не тогда ли именно овладела мною мысль о преступлении? Не в минуту ли этого безумия осенило мое сознание преступное намерение?
И снова я стал думать о горьких словах Джулианы: «Как упорно держится во мне жизнь». Но слишком упорной казалась мне не ее жизнь, а та, другая жизнь, которую она носила в себе; и именно та жизнь приводила меня в отчаяние, та жизнь начинала внушать мне мысль о преступлении.
В фигуре Джулианы не было еще заметно внешних признаков: расширения в бедрах, увеличения нижней части туловища. Значит, она была еще на первых месяцах: может быть, на третьем, может быть, в начале четвертого. Связь, скреплявшая зародыш во чреве, должно быть, была еще слабая. Прибегнуть к аборту можно было без большого труда. Как это не вызвали его бурные волнения дня, проведенного в Виллалилле, и этой ночи, эти напряжения, спазмы, конвульсии? Все было против меня, все случайности соединились против меня. И мое враждебное настроение становилось все острее.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу