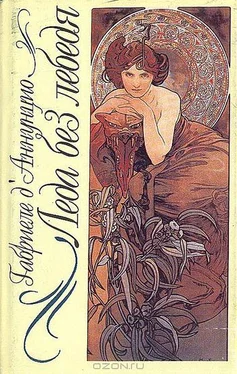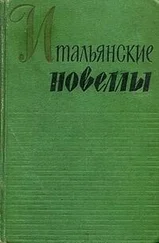Она произнесла эту последнюю фразу более глухим голосом, с каким-то неопределенным оттенком не то иронии, не то гнева. Я не смел поднять головы и взглянуть на нее. Ее слова причиняли мне ужасные страдания; и тем не менее я весь дрожал, когда она останавливалась. Я боялся, что силы вдруг изменят ей и она не в состоянии будет продолжать. И я ждал из ее уст других признаний, других обрывков души.
— Большой ошибкой, — продолжала она, — большой ошибкой было то, что я не умерла до твоего возвращения из Венеции. Но… бедная Мария… но бедная Наталья… как я могла их оставить? — Она замолчала на мгновение. — И тебя оставить было бы с моей стороны, быть может, дурно… Ты бы мучился угрызениями совести. Окружающие обвиняли бы тебя: «Почему она захотела умереть?» Не удалось бы скрыть от матери… Она спросила бы тебя: «Почему она захотела умереть?» Она добилась бы истины, которую мы скрывали от нее до сих пор… Бедная!.. Святая!..
По-видимому, у нее давило в горле: ее голос становился хриплым, содрогался, как от непрерывного плача. Такой же узел сдавливал и мое горло.
— И об этом я думала. Когда ты предложил мне переехать сюда, я думала также и о том, что я стала теперь недостойна ее, недостойна ее поцелуев в лоб, недостойна называться ее дочерью. Но ты знаешь, как мы слабы, как легко отдаемся силе вещей. Я больше не надеялась ни на что; я хорошо понимала, что, кроме смерти, для меня не было другого исхода; хорошо знала, что с каждым днем круг становится теснее. И тем не менее я допускала, чтобы дни шли за днями своей чередой, и не могла решиться. А у меня было верное средство покончить с собой!
Она остановилась. Повинуясь внезапному безотчетному импульсу, я поднял голову и пристально посмотрел на нее. Она вся затрепетала. И столь очевидна была боль, причиненная ей моим взглядом, что я снова опустил голову и замер в прежней позе.
До сих пор она стояла. Теперь села.
Наступила минута молчания.
— Думаешь ли ты, — спросила она с томительной робостью, — думаешь ли ты, что грех велик, если душа в нем не участвует?
Достаточно было одного этого намека на грех, чтобы в одно мгновение вновь поднять муть в моей успокоившейся было душе; к устам моим подступила бурная волна горечи. Невольно с уст моих сорвался сарказм. Делая вид, что улыбаюсь, я проговорил:
— Бедняжка!
На лице Джулианы появилось выражение такого сильного страдания, что я тут же почувствовал укол острого раскаяния. Я понял, что не мог нанести ей более жестокой раны и что ирония, направленная в эту минуту против этого прибитого горем существа, была самой гнусной подлостью.
— Прости меня, — сказала она с видом сраженного смертельным ударом человека (и мне показалось, что глаза у нее были кроткие, печальные, почти детские, какие я когда-то видел у раненых, лежащих на носилках), — прости меня. Ты тоже говорил вчера о душе… Ты думаешь теперь: «Именно подобные вещи говорят женщины в свое оправдание». Но я и не стараюсь оправдаться. Знаю, что прощение немыслимо, что забвение невозможно. Знаю, что исхода нет. Слышишь? Я хотела только, чтобы ты простил мне поцелуи, которые я похитила у твоей матери…
Голос ее все еще был тихий, очень слабый; тем не менее он казался раздирающим, как резкий, непрекращающийся крик.
— Я чувствовала на своем лбу тяжесть столь сильного страдания, что не ради себя, Туллио, а во имя этого страдания, только во имя него, я принимала поцелуи твоей матери. И если я была недостойна, то это страдание было достойно. Ты можешь простить меня.
Во мне шевельнулось чувство доброты, сожаления, но я не поддался ему. Я не смотрел ей в глаза. Мой взгляд невольно устремлялся на ее лоно, как бы для того, чтобы открыть в нем признаки ужасного факта; и я сделал над собой неимоверные усилия, чтобы не скорчиться от приступов судороги, чтобы не отдаться во власть безумного поступка.
— В некоторые дни я откладывала с часу на час исполнение моего решения; мысль об этом доме, о том, что произошло бы потом в нем, лишала меня мужества. Таким-то образом исчезла и надежда на возможность скрыть от тебя правду, на возможность спасти тебя; потому что в первые же дни мама догадалась о моем положении. Помнишь тот день, когда возле того окна мне стало дурно от запаха желтофиолей? С того самого дня мама заметила. Представь себе мой ужас! Я думала: «Если я покончу с собой, Туллио все узнает от матери. Кто знает, к каким последствиям приведет мой дурной поступок!» И я терзала себя день и ночь, пытаясь найти средство спасти тебя. Когда ты в воскресенье спросил меня: «Хочешь, поедем во вторник в Виллалиллу?» — я согласилась без размышлений, отдалась во власть судьбы, положилась на силу вещей, на случай. Я была уверена, что это будет моим последним днем. Эта уверенность опьяняла меня, делала меня какой-то безумной. Ах, Туллио, вспомни свои вчерашние слова и скажи мне, понимаешь ли ты теперь мою муку… понимаешь ли ее?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу