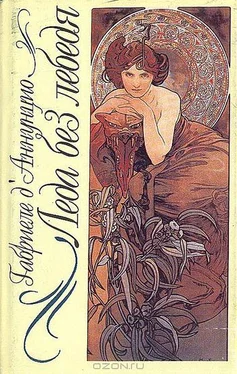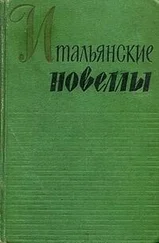Я внимательно поглядел на нее. Она лежала все в том же положении, неподвижно, с открытым лбом. «Спит ли она, — думал я, — быть может, она только притворяется, будто спит, для того чтобы устранить всякое подозрение, для того чтобы ее оставили одну? Если она действительно намерена не дожить до завтра, то она всеми силами старается теперь способствовать осуществлению этого намерения. Она симулирует сон. Если бы она в самом деле спала, то ее сон не мог бы быть таким спокойным, таким крепким — ведь у нее так возбуждены нервы. Вот я потревожу ее…» Но я колебался: «Быть может, однако, она в самом деле спит? Часто, после сильного нервного напряжения, несмотря на самое мучительное душевное состояние, нападает на человека сон, тяжелый, как обморок. О, хоть бы этот сон длился до утра, чтобы она встала освеженная и достаточно сильная для неизбежного объяснения между нами». Я пристально глядел на ее бледный как полотно лоб и, наклонившись слегка, заметил, что он становится влажным. Капля пота выступила над бровью, и эта капля вызвала во мне представление о том холодном поте, который сопровождает действие наркотических ядов. Внезапное подозрение пронизало меня: «Морфий!» Инстинктивно мой взгляд перенесся к ночному столику, по ту сторону постели, словно для того, чтобы найти на нем стеклянный флакон, отмеченный маленьким черным черепом, обычным символом смерти.
На столике стояли графин с водой, стакан, подсвечник; тут же лежали носовой платок ее и несколько шпилек, блестевших при свете лампы; больше не было ничего. Я быстро осмотрел весь альков. Смертельный страх сжимал мое сердце. «У Джулианы есть морфий, он всегда имеется у нее в небольшом количестве для впрыскиваний. Я уверен, что она задумала отравиться им. Куда она могла спрятать флакон?» Перед моими глазами стояла маленькая склянка, которую я однажды видел в руках Джулианы, склянка, отмеченная зловещей этикеткой, которую употребляют аптекари, чтобы обозначить яд. Возбужденное воображение шепнуло мне: «А что, если она уже выпила?.. Этот пот…» Я весь дрожал, сидя на стуле; и лихорадочные размышления проносились в моем мозгу. «Но когда же? Каким образом? Ее не оставляли одну. Достаточно одного мгновения, чтобы осушить флакон. Но, вероятно, была бы рвота… А этот приступ судорожной рвоты, недавно, как только она вошла в комнату? Заранее решив покончить с собой, она, быть может, держала морфий при себе. Весьма возможно, что она выпила его до приезда в Бадиолу, в коляске, в темноте. В самом деле, она не позволила Федерико съездить за врачом…» Я не знал хорошенько признаков отравления морфием. Бледный влажный лоб Джулианы, ее полная неподвижность пугали меня. Я собирался разбудить ее. «Но что, если я ошибаюсь? Если она проснется, что скажу я ей?» Мне казалось, что первое произнесенное ею слово, первый взгляд, которым мы обменяемся, наше первое обращение друг к другу произведут на меня неожиданное по своей силе впечатление; мне казалось, что я не смогу владеть собой, скрыть свое состояние и что она сразу, поглядев на меня, поймет, что я знаю все. И что тогда?
Я напряг свой слух, надеясь и в то же время боясь услышать шаги моей матери. Затем — я бы так не дрожал, приподымая саван, покрывающий лицо покойника, — я мало-помалу открыл лицо Джулианы.
Она раскрыла глаза.
— Ах, Туллио, это ты?
Она произнесла эти слова обычным голосом. И — что было для меня неожиданностью — я также мог говорить.
— Ты спала? — спросил я, избегая глядеть ей в глаза.
— Да, я заснула.
— Значит, я разбудил тебя… Прости… Я хотел открыть тебе рот… Я боялся, что тебе трудно дышать, что ты задохнешься под одеялами.
— Да, это правда. Мне теперь тепло, даже жарко. Сними с меня несколько одеял, прошу тебя.
Я встал, чтобы исполнить ее просьбу. Я не могу теперь определить то состояние моего сознания, которое сопровождало мои движения, припомнить слова, которые я произносил и слышал; все, что происходило тогда, было так естественно, словно ничто не изменилось, словно мы с Джулианой находились в неведении и безопасности, словно там, в глубине этого спокойного алькова, не таились — прелюбодеяние, обман, угрызения совести, ревность, страх, смерть, все ужасы человеческой души.
Она спросила меня:
— Теперь очень поздно?
— Нет, еще не пробило двенадцать.
— Мама пошла спать?
— Нет еще.
После минутного молчания:
— А ты… еще не идешь? Ты, вероятно, устал…
Я не находил ответа. Должен ли я ответить, что остаюсь? Просить ее позволить мне остаться? Повторить ей нежные слова, произнесенные мной на кресле, там, в Виллалилле, в нашей комнате? Но если бы я остался, как провел бы я эту ночь? Сидя на стуле, не смыкая глаз, или в постели, рядом с ней? Как я держал бы себя? Мог ли бы я притворяться до конца?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу