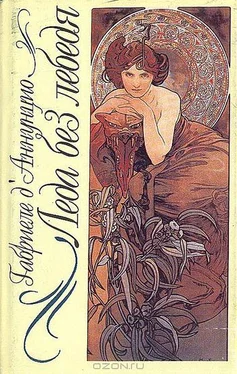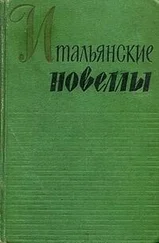Куда иду? К какой вершине? И что творится у меня внутри помимо воли?
Ищу я дом пустой, заброшенную виллу и комнату, звенящую мне в ухо пустотой, подобно ракушке из вод морских. Душа как море, чей рокот неумолчен, даже когда замрут слова в устах твоих.
Очертанья старинной виллы медицейской все чахнут на холме средь пиний, кипарисов. Вхожу. Никто не ждет того, кто ждет одних лишь перемен.
В парадной зале камин с гербами медицейскими над дымоходом; в камине ни потухшей головешки, ни горсточки золы, ни костяка древнейшей саламандры. Легкий бриз, влетев с балкона, листает страницы требника. Склоняюсь и читаю негаданное слово. О том, что Бог есть вечный возлюбленный душ человеческих: «Deus qui animarum humanarum ae ternus amator es».
Я на балконе, подпираемом колоннами светлого камня, в коем угадываю лики кариатид, сокрытые подобно нимфам в стволах древесных. И старый, потускневший фриз стены так утонченно окаймляет мою печать фестонами плюща, гвоздикой в вазах. Потертые, расшатанные кирпичи колеблются у меня под ногами. Я вижу Арно, вьющуюся меж благодушных холмов, аллею мрачных кипарисов, которые спускаются к реке, чтобы напиться не склоняясь.
Я возвращаюсь в дом. Наткнулся в полумраке на остов разбитого кимвала — он стонет жалобно. Перехожу из залы в залу с опаской, что на голову обрушится кусок лепнины. Однако же печаль моя осталась на балконе, в плену у тусклого изящества стенного фриза.
В тебе есть нежность, способная доставить мне страданья, и есть жестокость, что тщится осчастливить. И благость, призывающая смерть, и скорбь, не насыщаемая жизнью. Есть отвращенье жаждущее и жажда отвращающая. Любовь, замешенная на ненависти, и ненависть, дрожащая под бременем любви.
Кто говорит со мною в этой угрюмой зале? Неужто возле уха все рокочет морская раковина?
Меня объемлет, увлекает демон бегства. Лес гигантских пиний меня сечет. Вот оскверненная часовенка пустой глазницей сверлит одичалый сад. Вхожу. И возлагаю руки на жертвенник немой. Вдыхаю ароматы мира, а может, это запах предрассветной лесной смолы? Читаю надпись над изгибом алтаря: «Propter nos homines» [76] За нас, людей (лат.).
— и содрогаюсь. Озираюсь. Смотрю. Внимаю.
— Пребудешь с тем, кто светел и высок на фоне черноты твоей.
Бреду наугад. Оливковая роща мне предстает толпой истерзанной, смятенной. Пусть говорит с оливами душа, они поймут ее скорее, чем я понять бы мог. А я ловлю лишь клочья слов, как будто взвихренных внезапно стихшей бурей. Сгущается безлунье, но зренье не подводит меня, как слух: смотреть мне легче, чем слушать. Ночь входит в свои права. И кто-то начинает с ангелом борьбу. Нет, не Иаков, а тут, вблизи пещер, бок о бок с каменотесами — иной каменотес, по имени Сумрак Ночи. Недолго бился Иаков с тем ангелом ночным. Увидев, что его не одолеть, коснулся Некто состава бедра его. А Буонарроти бился с ангелом своим всю жизнь, с заката до восхода. И ему, как Иакову, всякий раз ангел говорил: «Отпусти меня, ибо взошла заря». И всякий раз ответствовал творец: «Не отпущу, покуда я тебя не изваял, а ты меня, да, я тебя, а ты меня».
И бьется до сих пор. За эти озерки, за эти рощи, за каменоломни бьется до сих пор. Его я видел, вижу: уперся в землю, так что ногтями подошвы продырявил, и при каждой встряске колышутся божественные перья вокруг сурового чела.
Да, ежели борьба — искусство, искусство есть борьба. Я это знаю. Мне терзаться любо. И ежели бы он меня увидел, я стал бы люб ему. Его я вижу. Опять смежаю вежды. Снова жду, прижавшись к узловатому, худому, как стан борца, стволу оливы. Как он, дышу натужно и терзаюсь.
— Скажи мне свое имя! Имя свое открой!
И в зрении, и в слухе ощущаю приметы явные бессмертного недуга моего.
— Ты тайно в грудь свою приемлешь души, объятые живительным огнем.
Дрожу от ослепленья. Внизу, в тени, белеет чей-то образ. Он жив, я знаю. При каждом взмахе ресниц вбираю жизнь его с уверенностию воды, что проникает в уста и орошает горло. Меня уж не волнуют подспудные мучения олив. Дыханье раннего тепла пронзает холодную кончину января, и где-то, в верховьях сердца, стучится доверительно и тайно приход весны. Что это за одежды? Лен не бывает столь воздушен, и не видал ни разу я, чтоб он так празднично белел издалека. Наверно, то необычайный хитон из лепестков. Он так нежен и будто делит надвое долину, а вечер — на две синевы, а благовест — на два напева, что всколыхнули покой холмов.
— Тебя узрел я прежде, чем белизна твоя вспорола сердце ночи.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу