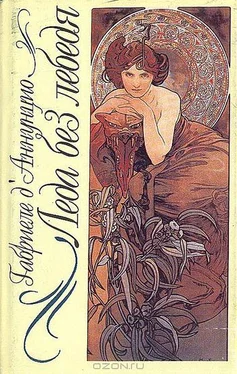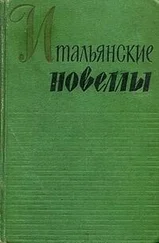Анна стояла около своего стула, в такой живой позе, что я тотчас же догадался, что она только что вскочила, услыхав волынки своих гор, прелюдию старинной пасторали.
— Спит? — спросил я.
Она утвердительно кивнула головой.
Звуки продолжались, смягченные расстоянием, нежные, как во сне, немного глухие, заунывные, медленные. Четкие гобои наигрывали наивную, врезывающуюся в память мелодию под аккомпанемент волынок.
— Иди и ты на службу, — сказал я ей. — Я останусь здесь. Он давно заснул?
— Только что.
— Иди, иди же в часовню.
Глаза ее заблестели.
— Можно пойти?
— Да. Я останусь здесь.
Я сам открыл ей дверь и закрыл ее за нею. Подбежал на цыпочках к колыбели; заглянул в нее. Невинный спал в своих пеленках, на спине, сжимая большие пальцы в маленьких кулачках. Сквозь пелену век, казалось, мне видны были его зрачки. Но в глубине своего существа я не почувствовал слепого приступа ненависти и гнева. Мое отвращение к нему было слабее обычного.
Я не испытывал более того инстинктивного импульса, который раньше пробегал по моим пальцам, готовым на всякое преступное насилие. Я повиновался лишь импульсу холодной и ясной воли, вполне сознавая, что делаю.
Вернулся к двери, снова раскрыл ее, убедился, что в коридоре никого нет. Затем подбежал к окну. Мне пришли на память слова матери; мелькнуло подозрение, не стоит ли там внизу, на площадке, Джованни ди Скордио. С бесконечными предосторожностями открыл окно; струя ледяного воздуха охватила меня. Высунулся из окна, чтобы осмотреть все вокруг. Не увидел ничего подозрительного; слышны были только рассеянные звуки рождественской музыки. Отошел от окна, подошел к колыбели, с усилием победил сильное отвращение; тихо-тихо, сдерживая дыхание, взял ребенка; держа его подальше от слишком сильно бившегося сердца, поднес к окну; выставил его на воздух, который должен был умертвить его.
Я не растерялся; ни одно из моих чувств не изменило мне; я видел на небе звезды, которые мигали, точно горный ветер колыхал их. Видел обманчивые, наводящие ужас тени, которые оставлял колеблющийся свет лампады на портьерах; ясно слышал припев пасторали и отдаленный лай собаки. Движение ребенка заставило меня вздрогнуть. Он просыпался.
Я подумал: «Теперь он заплачет. Сколько времени прошло? Может быть, минута, может быть, меньше минуты. Достаточно ли этого короткого времени для его смерти? Поражен ли он насмерть?» Ребенок зашевелил руками, скривил рот, раскрыл его; он замедлил немного с плачем, который показался мне изменившимся, более слабым и более дрожащим, может быть, потому, что на воздухе он звучал иначе, а я всегда слышал его в закрытом помещении. Этот слабый, дрожащий плач безумно испугал меня; безотчетный ужас овладел мною. Я бросился к колыбели, положил ребенка. Вернулся к окну, чтобы закрыть его; но прежде, чем закрыть, я высунулся в него, бросил взгляд в темноту, но ничего, кроме звезд, не увидел. Закрыл окно. Хотя и объятый паническим ужасом, я все же избегал шума. А ребенок позади меня плакал все сильнее и сильнее. «Спасен ли я?» Я бросился к двери, посмотрел в коридор, прислушался. Коридор был пуст; проносилась лишь медленная волна звуков.
«Итак, я спасен. Кто мог видеть меня?» Посмотрев в окно, я снова подумал о Джованни ди Скордио и снова стал беспокоиться. «Да нет же, там никого не было. Я смотрел два раза». Подошел к колыбели, поправил ребенка, заботливо накрыл его, убедился, что все на своем месте. Его прикосновение вызывало теперь во мне непобедимое отвращение. А он все плакал и плакал. Что мне было делать, чтобы успокоить его? Я стал ждать.
Но этот непрерывный плач в этой большой уединенной комнате, эта неопределенная жалоба бессознательной жертвы терзали меня так жестоко, что, не будучи в силах выносить это, я встал, чтобы как-нибудь избавиться от этой пытки. Вышел в коридор, притворил за собой дверь; стал прислушиваться. Голос ребенка едва доносился до меня, сливаясь с медленной волной звуков. Звуки продолжались, смягченные расстоянием, нежные, как во сне, немного глухие, заунывные, медленные. Четкие гобои наигрывали наивную мелодию под аккомпанемент волынок. Пастораль разносилась по всему мирному дому, доходя, вероятно, до самых отдаленных комнат. Слышала ли ее Джулиана? Что думала и что чувствовала она? Плакала?
Не знаю почему, в мое сердце вонзилась эта уверенность: «Она плачет». И от этой уверенности родилось яркое видение, давшее мне сознательное и глубокое ощущение. Мысли и образы, мелькавшие в моем мозгу, были бессвязны, отрывочны, бессмысленны, составлены из элементов, не соответствующих друг другу; были неуловимы, загадочны. Меня охватил страх безумия. Я спросил себя: «Сколько же времени прошло?» И заметил, что совершенно утратил чувство времени.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу