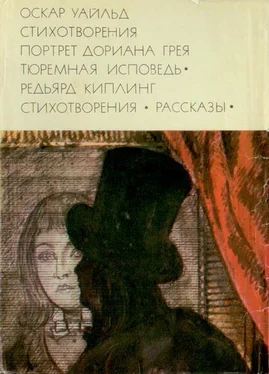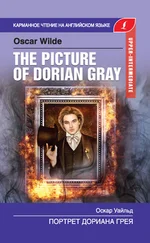Я видел только головы, они прыгали и метались, да слышал несколько крепких словечек. Потом Белл говорит:
«Они на себя не надеются… только один… в такую воду… никто, кроме Кинлоха, а им я не могу рисковать».
«В таком разе, — говорю, — на мою долю больше вознаграждения достанется. Буду нести вахту соло».
Тогда один малый, береговая крыса, говорит:
«Думаешь, опасности нету?»
«Я тебе ничего в точности не могу посулить, — говорю, — кроме хорошей взбучки за то, что ты заставляешь меня дожидаться столько времени».
Тут он заскулил:
«На судне один-единственный спасательный пояс, да и тот найти не могут, иначе я давно был бы с тобой».
«Швыряйте его, пакостника шкодливого, силой», — говорю, потому как я уже потерял последнее терпение.
И они схватили этого самого добровольца, он и сообразить не успел, что его ждет, да вывалили за борт, обмотав моим леером. Ну, я живо втащил его на этой петле, перехватывая леер, — очень даже полезный оказался новобранец, когда я вытряс из него соленую воду: он, к слову сказать, и плавать-то не умел.
Тут они срастили леер с двухдюймовым канатом, а канат — с тросом, я намотал канат на ворот носовой лебедки, после чего мы, обливаясь потом, выволокли трос на борт и накрепко затянули вокруг кнехта «Гроткау».
Белл подвел «Змея» так близко, что я испугался, как бы он при первой же волне не пробил обшивку «Гроткау». Белл перебросил мне второй леер и побежал на корму, а мы снова долго уродовались у лебедки, покуда не закрепили и этот трос. При всем том Белл был прав: предстоял долгий путь с буксиром, и хотя провидение до тех пор нам помогало, глупо было бы слишком полагаться и дальше на его милость. Когда мы закрепили второй трос, я весь взмок от пота и крикнул Беллу, чтоб он выбрал слабину да двигал домой, в порт. Помощничек мой пособлял работе все больше просьбами, чтоб ему дали выпить, но я велел ему присматривать за снастями и стоять на руле, главное, стоять на руле, потому как сам хотел соснуть малость. И он стоял на руле, да, если это можно так назвать. По крайности, он вцепился в шпаги и крутил руль, только, сдается мне, на «Блудне» навряд ли заметили его усердие. А я ушел в каюту этого щенка Бэннистера, лег там на койку и уснул мертвецким сном. Проснулся я от голода, злой, как собака, а море ярилось вокруг, и «Змей» пыхтел, делая четыре узла; ну а «Гроткау» шлепал, и зарывался носом в волны, и покряхтывал, и рыскал, как вздумается. Такого паскудного судна никто еще не буксировал, срам, да и только. Но больше всего сраму вышло с провиантом. Я искал пожрать на полках, в камбузе, и в кладовке, и в лазарете, и во всех закоулках, но то, что нашлось, я не предложил бы последнему кардиффскому углекопу: а ты ведь знаешь, у нас поговорка такая есть — кардиффский углекоп и шлак слопает, лишь бы добро не пропадало. Да, скажу я тебе, это было паскудство! Матросы написали ихнее мнение по этому поводу на новой краске на полубаке, но со мною рядом не было даже приличного человека, чтоб ему пожалиться. И мне ничего не оставалось, кроме как следить за буксирными тросами да глядеть на корму «Змея», которая с хлюпаньем окуналась в пену, когда корабль рассекал волну; потом я раскочегарил паровой насос на юте и откачал воду из машины. Нет никакого расчету оставлять воду на судне. Когда стало сухо, я спустился в шахту и увидал, что там всего-навсего маленькая течь через сальники, но своим ходом судно все одно не пойдет. Ведь винт сорвало, я-то давно знал, что так беспременно и будет, а Колдер только этого и дожидался, уже руку держал на рычаге. Он сам мне признался после, когда мы на берегу свиделись. Ничто не было сломано или покорежено. Винт просто-напросто погрузился на дно Атлантики так же легко, как человек помирает в назначенный час, — и ежели все взять в соображение, так это самим провидением было уготовано. Потом я осмотрел палубную оснастку «Гроткау». На шлюпбалках остались одни щепы заместо шлюпок, кое-где разломало фальшборт, сорвало несколько вентиляционных труб да от волн погнулись поручни на мостике; но люки были задраены плотно, и само судно не особо повреждено. Господи, я его возненавидел, как живую тварь, ведь я пробыл в море восемь тяжких дней, вымотался, чуть не подох с голоду — да, с голоду, — а всего в кабельтове от меня было полно всякой жратвы. Целыми днями валялся я на койке, читал роман «Женоненавистник», самую замечательную книгу, какую написал Чарли Рид, и порой прикладывался к бутылке. Это было очень, очень тяжко. Да, брат, восемь дней провел я на «Гроткау» и ни разу не пожрал досыта. Оно и не диво, что команда отказалась его спасать. А тот, второй? Ну, его я заставлял вкалывать на совесть, чтоб он не мерзнул.
Читать дальше