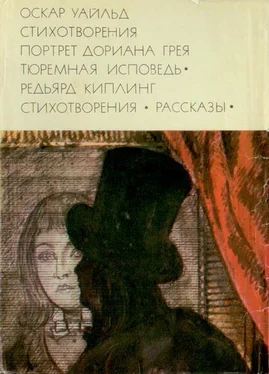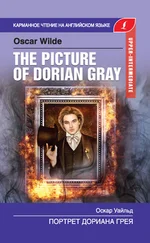— Я имела довольно успеха, но ни разу еще не заставила их ворковать, — сказала Дол с тоской.
— Важно не как, а когда, — повторил Бэт. — Ага, вот оно!
Он подался вперед, а публика начала волноваться и орать во всю глотку. Дол убежала. Извилистая, безмолвная процессия входила в зал полицейского суда под едва слышную музыку. Участники ее были одеты… но весь мир благодаря кинематографу знает теперь, как они были одеты. И они танцевали, танцевали, танцевали тот самый танец, который потом полгода отплясывало все человечество, и завершили его «арестанцем», после чего зрители чуть не попадали с кресел, рыдая в изнеможении. На галерке кто-то простонал: «Господи, это «Дрыгли»!» — и мы услышали, как это слово подхватили прерывающимися голосами, потому что зрители еще не могли перевести дух. А потом появилась Дол с электрической звездой в черных волосах, на трехдюймовых каблуках, сверкавших брильянтами, — чудесное видение оставалось недвижимым ровно тридцать секунд при смене декораций, но вот полицейский суд на заднем плане превратился в Маникюрный дворец Марджаны, и зрители очнулись. Звезда на ее челе погасла, и она, заливаемая мягким светом, выступила — медленно, очень медленно, под влюбленный напев струн — на восемнадцать шагов вперед. Вначале перед нами предстала лишь ослепительная королева; потом эта королева впервые заметила своих подданных; и наконец к нам простерла трепетные руки счастливая женщина, которая внушала глубокое благоговение, но преобразилась и озарена была простой пленительной нежностью и добротою. Я расслышал бессвязный восторженный лепет — те самые воркующие звуки, с которыми не сравнится целая буря рукоплесканий. Звуки эти затихали, возобновлялись и очарованно затихали снова.
— Ей это удалось, — прошептал Бэт. — Никогда еще я не видел ее в таком ударе. Я ей советовал зажечь звезду, но был неправ, и она это знала. Она подлинная актриса.
— Дол, ты прелесть, — сказал кто-то негромко, но слышно было на весь зал.
— Благодарю вас! — отвечала Дол, и ее отрывистый возглас прозвучал, как последний удар, замкнувший железные оковы. — Добрый вечер, мальчики! Я только что была… обождите… где же я, черт побери, была? — Она обернулась к бесстрастным рядам танцоров и продолжала: — Ах, как мило, что вы мне напомнили, мои славные, румяные мордашки. Я только была там, где… ну, где «голосованием признали Землю плоской».
И она грянула песню в сопровождении всего оркестра. За ближайшие полгода песня эта сотрясла всю обитаемую землю. Постарайтесь же представить себе страсть и бешеный ритм, которые прорвались наружу в блистательный миг ее рождения! Дол исполнила припев только раз. После второго куплета она воскликнула: «Вы заодно со мной, ребята?» — и весь зал дружно подхватил: « Земля плоска, плоска, как доска, потому что доски очень даже плоски», — заглушив все инструменты, кроме фаготов и контрабасов, которые выделяли главное слово.
— Великолепно, — сказал я Бэту. — А ведь это всего лишь вариации на тему детской песенки про орешки.
— Да, но вариации эти сочинил я , — отвечал он.
Дойдя до последнего куплета, она сделала знак дирижеру Карлини, и тот бросил ей свою палочку. Она поймала палочку с мальчишеской ловкостью. «Вы заодно со мной?» — воскликнула она снова и — поддерживаемая обезумевшей публикой — заставила смолкнуть весь оркестр, одни только контрабасы глухо взревывали при слове «Земля» … «Как голосованием признали Землю плоской, признали Землю плоской!» Это было похоже на бред. Потом Дол увлекла за собой танцоров, и они трижды пронеслись вокруг сцены, с грохотом отплясывая импровизированный «арестанец», а под конец она дрыгнула ножкой, и ее туфелька, сверкающая брильянтами, взлетела к люстре, словно ракета.
Я видел, как над залом вырос лес рук, стремившихся ее поймать, слышал, как рев и топот, вздымаясь вихрями, слились в неистовом урагане; слышал, как песня, на которую преданные контрабасы набрасывались, словно бульдог на норовистого быка, звучала, несмотря ни на что; но вот, наконец-то, занавес опустился, и Бэт повел меня в артистическую уборную, где лежала обессиленная Дол, только что со сцены, куда ее уже в седьмой раз вызывали раскланиваться. А песня проникала сквозь все оштукатуренные перегородки и сотрясала железобетонное здание «Трилистника», как паровые копры сотрясают стенки дока.
— Я достигла своей вершины — впервые в жизни. Ага! Признайся, дружок, удалось мне это? — спросила она хриплым шепотом.
Читать дальше