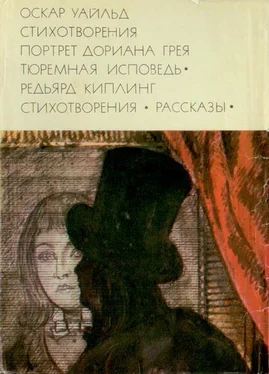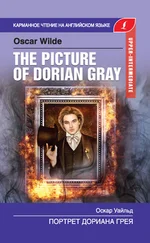Я увидел, как на ладони доктора блеснуло серебро. Землекоп принял его левой и отправил в карман; могучая же правая ни на миг не выпускала докторского ворота, и с приближением кризиса все громче и громче раздавался бычий рев: «Зачем ты меня опоил?»
Они проплыли под толстыми футовыми бревнами мостика к скамье, и я понял, что время близится. Зелье начинало действовать. Синее, белое и снова синее волнами прокатывались по лицу землекопа, покуда их не вытеснил прочный глинисто-желтый, и — чему быть, того не миновал он.
Я подумал о стремнине Адских Ворот, о гейзерах в Йеллоустонском парке, [280]о Ионе и его ките, [281]но живая модель, хотя и укороченная верхним ракурсом, превосходила все это. Он наткнулся на скамью, на тяжелые лафеты, прибитые железными скобами к вечному камню, и уцепился за нее левой рукой. Она затряслась и задрожала, как дрожит насыпной мол под натиском рвущегося на сушу моря, и вдоволь было — когда он перевел дух — «воплей брега, разъяренного битвою с прибоем». Правая его рука держала ворот доктора, так что в одном пароксизме бились двое — два маятника, колеблющихся вместе, — и я, на расстоянии, дрожал вместе с ними.
Это было колоссально — невероятно; но английский язык немеет перед некоторыми явлениями. Только французскому, кариатидному французскому Виктора Гюго, под силу это описать; и я скорбел, хотя смеялся, торопливо перебирая и отбрасывая бледные эпитеты. Начальная ярость приступа утихла, и страдалец то ли упал, то ли опустился коленями на скамью. Теперь он хрипло призывал Бога и свою жену — как раненый бык призывает свое невредимое стадо не покидать его. Как ни странно, он не употреблял ругательств — они вышли из него вместе с остальным. Доктор извлек золотой. Он был принят и удержан. Так же, как докторский воротник.
— Если бы я мог встать, — жалобно гудел великан, — я бы тебя изничтожил, с твоими пузырьками. Помираю… помираю… помираю!
— Это вы так думаете, — возразил врач. — Увидите, от этого не будет ничего, кроме пользы, — и, возводя несколько императивную необходимость в добродетель, добавил: — Я вас не покину. Если вы меня на секунду отпустите, я дам вам средство, которое вас успокоит.
— Ты и так меня успокоил, проклятый анархист. Оставил без кормильца семью английского рабочего! Но я тебя не выпущу, пока не умру или не поправлюсь. Я тебе ничего не сделал. Ну, положим, выпил малость. Меня выкачивали у Гая желудочным зонтом. Ну, то еще понятно — но это как понять — когда убивают медленной смертью?
— Через полчаса у вас все пройдет. Зачем мне, по-вашему, вас убивать? — сказал врач, как видно, тяготевший к логике.
— А я-то почем знаю? На суде все расскажешь. Тебе за это семь лет дадут, похититель трупов. Вот кто ты есть — похититель, будь ты неладен. В Англии с законом шутки плохи, это я тебе говорю, и профсоюз мой тоже тебя потягает. У нас мудровать над чужим нутром не позволено. Одна за ерунду против твоих штук десять лет получила. И еще сотни да сотни будешь платить моей хозяйке вдобавок к пенсии. Ты еще увидишь, знахарь заморский. Где твое разрешение на такие дела? Ты еще хлебнешь — это я тебе говорю!
Тут я заметил, как уже замечал не раз, что человек, вполне умеренно боящийся столкновения с иностранцем, испытывает самый дикий страх перед действием иностранного закона. Голос доктора своей изысканной вежливостью напоминал уже флейту:
— Но я ведь дал вам очень много денег — должно быть, фунтов пя… три.
— Три фунта за отравление такого, как я? У Гая мне за труп — вперед — давали двадцать. Уй! Опять начинается.
Второй раз великан был сражен, так сказать, на корню, и скамья под ним заходила, а я отвел взгляд.
В английском майском дне как раз наступил миг завершения. Невидимые токи воздуха повернули в другую сторону, и вся природа обращала свой лик с тенями конских каштанов к покою грядущей ночи. Но от конца день отделяли еще часы — я знал это, — долгие, долгие часы бесконечных английских сумерек. И мне было довольно того, что я жив; что плыву, куда несут меня Время и Судьба; что кожей впитываю этот великий покой; что люблю мою страну с нежностью, созревающей только тогда, когда между тобой и домом — три тысячи миль соленой воды. И что за райский сад была эта холеная, подстриженная, отмытая земля! Тут заночуй в чистом поле, и тебе будет покойней и уютней, чем в самых величественных зданиях чужих городов. И радостно чувствовать, что все это — мое, неотторжимо — чистая дорога, подстриженная изгородь, скромный каменный коттедж, густая рощица и пушистые кусты, белобокий боярышник, рослое дерево. Легкое дуновение ветерка — он разбросал лепестки боярышника по блестящим рельсам — донесло до меня слабый аромат будто свежего кокоса, и я понял, что где-то вдалеке цветет золотой утесник. Линней, [282]впервые увидев его в поле, благодарил Господа на коленях — на коленях, кстати, стоял сейчас и землекоп. Но он отнюдь не молился. Он был, прямо скажем, отвратителен.
Читать дальше