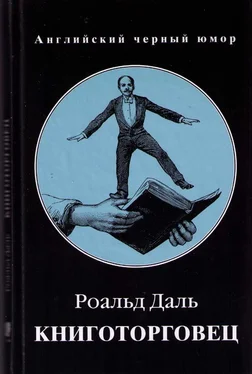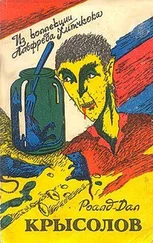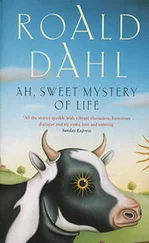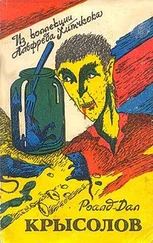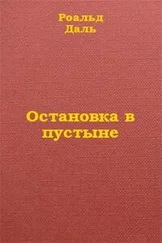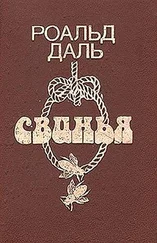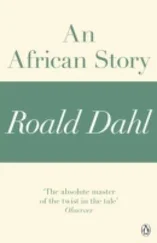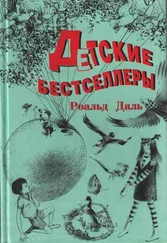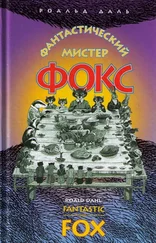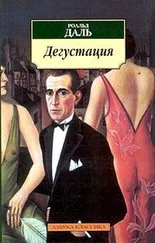Но довольно про наставников. А с нами-то что? Ведь мы — это толпа десяти-, одиннадцати- и двенадцатилетних мальчишек, рассевшихся за столами Зала Собраний, в школе, в которой вдруг не осталось ни единого взрослого…
Мы, конечно, точно знали, что произойдет дальше. Как только наставники уберутся, вновь откроется дверь главного входа, застучат каблучки — сначала на ступеньках, потом все ближе и ближе — и, наконец, вихрем из развевающихся одежд, позвякивающих браслетов и распущенных волос в зал ворвется дама и закричит: „Всем приветик! Выше голову! Веселей! Вы не на похоронах!“ или что-то вроде. И это будет миссис О'Коннор.
Благослови, Господи, великолепную миссис О'Коннор в ее сногсшибательных нарядах и с седыми волосами, разлетающимися во все стороны. Ей было около пятидесяти, лицо ее, с длинными желтыми зубами, было похоже на лошадиное, но нам она казалось прекрасной. В штате школы она не состояла. Ее отыскали где-то в городе и наняли, чтобы каждую субботу она приходила по утрам в школу и присматривала за нами. Словом, ей отводилась роль этакой няньки, которая должна утихомиривать нас в течение тех двух с половиной часов, когда в школе нет ни одного взрослого, потому что все наставники расслабляются в пивной.
Но никакой нянькой миссис О'Коннор не была. На самом деле она была по-настоящему великим, одаренным знатоком, влюбленным в английскую литературу. Три года подряд мы проводили с нею каждое субботнее утро и за это время успели изучить с нею всю историю английской литературы за почти полторы тысячи лет, с 597 года от Рождества Христова до середины девятнадцатого века.
Каждому новичку выдавалась тоненькая синенькая книжица под названием „Хронология“. В книжке было всего шесть страниц, и они содержали длинный перечень великих и не очень великих событий в истории английской литературы, с указанием даты. Миссис О'Коннор выбрала оттуда ровно сотню дат, мы пометили их в своих книжечках и выучили наизусть. Некоторые я помню до сих пор:
597. Св. Августин высадился в Британии и стал проповедовать христианство.
731. „Церковная история“ Беды Достопочтенного.
1215. Великая Хартия вольностей.
1399. Ленгланд, „Видение о Петре Пахаре“.
1476. Кэкстон устанавливает первый печатный станок в Вестминстере.
1478. Чосер, „Кентерберийские рассказы“.
1485. Мэлори, „Смерть Артура“.
1590. Спенсер, „Королева фей“.
1623. Первое „издание“ Шекспира.
1667. Мильтон, „Потерянный рай“.
1668. Драйден, „Опыты“.
1678. Беньян, „Путь паломника“.
1711. Аддисон, „Наблюдатель“.
1719. Дефо, „Робинзон Крузо“.
1726. Свифт, „Путешествия Гулливера“.
1733. Поуп, „Опыт о человеке“.
1755. Джонсон, „Словарь“.
1791. Бозуэлл, „Жизнь Джонсона“.
1833. Карлайл, „Сартор Ресартус“.
1859. Дарвин, „Происхождение видов“.
Г-жа О'Коннор выбирала очередную тему и посвящала ей одно субботнее утро. Так что к концу третьего года, считая, что за учебный год бывает около тридцати трех суббот, она охватывала сотню выбранных тем.
Это было ужасно интересно! У нее был великий дар учителя: все, о чем она говорила, тут же оживало перед нашими глазами. За два с половиной часа мы дорастали до любви к Ленгланду и его Петру Пахарю. Через неделю являлся Чосер, и его мы тоже успевали полюбить за то же время. Даже такие не очень понятные типы, как Мильтон, Драйден или Поуп, — мы и за них начинали переживать и даже сочувствовать им, стоило миссис О'Коннор рассказать про них и прочесть умело подобранные отрывки из их сочинений. И результат — по крайней мере, для меня, — был таким, что к тринадцати годам я очень четко осознавал величие огромного литературного наследия, накопленного Англией за века. И еще: я стал жадным и ненасытным читателем серьезной литературы.
Милая, несравненная, незабвенная миссис О'Коннор! Стоило, наверное, мучиться в этой отвратительной школе ради счастья и удовольствия, которое я испытывал на ее субботних уроках.
В тринадцать лет, после окончания начальной школы, меня отправили в другую, тоже закрытую. Называлась она Рептон, находилась в графстве Дербишир, а директорствовал в ней в то время священник Джоффри Фишер, ставший впоследствии епископом Честерским, потом епископом Лондонским и, наконец, архиепископом Кентерберийским. Кстати, именно он, став архиепископом, короновал королеву Елизавету Вторую в Вестминстерском аббатстве.
Одежды, которые полагалось носить в этой школе, придавали ученикам сходство с приказчиками похоронного бюро. Черный сюртук, приталенный спереди и с длинными фалдами сзади, болтался где-то под коленками. Черные брюки с узеньким серым шевроном. Черные ботинки. И черная жилетка с одиннадцатью пуговицами, которые надо было застегивать каждое утро. Галстук черный. И еще жесткий накрахмаленный воротничок, с отогнутыми назад, на манер бабочки, уголками. И только сорочка белая.
Читать дальше