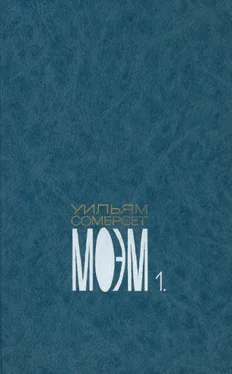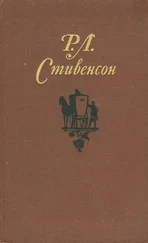Улыбка разносчика стала еще более раболепной, хотя он и не понял ни единого слова из того, что сказал ему Кроншоу; словно фокусник, он извлек откуда-то ларчик сандалового дерева.
— Нет, покажи нам лучше узорчатые ткани восточных мастеров,— продекламировал Кроншоу.— Я хочу вывести мораль и украсить свой рассказ.
Левантинец развернул скатерть — красную, желтую, кричащую, безобразную, как смертный грех.
— Тридцать пять франков,— попросил он.
— О почтенный купец, этой ткани не касалась рука ткачей Самарканда, и красок этих не разводили в чанах Бухары.
— Двадцать пять франков,— униженно осклабился разносчик.
— В тридесятом царстве, в неведомом государстве соткали эту ткань, а может, даже в Бирмингеме, на родине моей.
— Пятнадцать франков,— прошептал бородатый торговец.
— Уйди с глаз моих долой, бродяга,— сказал Кроншоу.— Да обесчестят дикие ослы могилу твоей матери.
Невозмутимо, но уже больше не улыбаясь, левантинец перешел со своими товарами к другому столику. Кроншоу повернулся к Филипу:
— Вы бывали в музее Клюни́? Там вы найдете персидские ковры прекраснейших тонов, с рисунком таким изысканным, что он поражает глаз. В этих коврах вся таинственная и чувственная прелесть Востока, розы Хафиза и чаша с вином Омара Хайяма. Но вскоре вы увидите в них не только это. Вот вы меня спрашивали, в чем смысл жизни. Ступайте поглядите на эти персидские ковры, и в один прекрасный день ответ придет к вам сам.
— Вы говорите загадками,— сказал Филип.
— Я просто пьян,— ответил Кроншоу.
Филип обнаружил, что жизнь в Париже сто́ит совсем не так дешево, как его уверяли: к февралю он истратил почти все деньги, которые привез с собой. Гордость не позволяла ему обратиться к опекуну, и он не хотел, чтобы тетя Луиза знала, как ему туго, понимая, что она непременно пошлет ему хоть небольшую сумму из своих денег, а у нее самой их осталось так немного. Через три месяца он достигнет совершеннолетия и сможет распоряжаться своим маленьким состоянием. А пока Филип старался свести концы с концами, продав золотые вещи, доставшиеся ему от отца.
Как раз в это время Лоусон предложил ему снять вместе небольшую мастерскую на одной из улиц возле бульвара Распай. Стоило это очень дешево. К мастерской примыкала комната, в которой они могли спать, а так как Филип проводил каждое утро в студии, Лоусон мог пользоваться в эти часы мастерской. Переменив несколько студий, Лоусон решил, что ему лучше всего работать самостоятельно, и предлагал нанять натурщика на три или четыре сеанса в неделю. Поначалу Филип колебался, боясь, что ему это будет не по средствам, но они подсчитали расходы, и оказалось (им очень хотелось иметь собственную мастерскую, и расчеты их были самыми приблизительными), что тратить им придется немногим больше, чем живя в гостинице. И, хотя платить за помещение и консьержке за уборку придется теперь чуть побольше, они сэкономят на завтраках, которые смогут готовить себе сами. Года два назад Филип отказался бы жить в одной комнате с кем бы то ни было — так болезненно переживал он свое уродство, но теперь он стал куда менее чувствителен: в Париже все это казалось совсем не таким важным, и, хотя он сам никогда не забывал о своей хромоте, ему перестало казаться, что другие только о ней и думают.
Они переехали, купили две кровати, умывальник, несколько стульев и впервые испытали радость обладания собственностью. В первую ночь, проведенную «дома», они были так возбуждены, что никак не могли заснуть и проговорили до трех часов утра, а на следующий день, когда они затопили камин, сами сварили себе кофе и сели пить его в пижамах, им стало так весело, что Филип с трудом попал в «Амитрано» к одиннадцати часам. Настроение у него было отличное. Он кивнул Фанни Прайс:
— Как дела?
— А вам-то что? — услышал он в ответ.
Филип не мог удержаться от смеха.
— Зря вы на меня кидаетесь. Я просто старался быть вежливым.
— Не нужно мне вашей вежливости.
— Зачем вам ссориться и со мной? — добродушно спросил ее Филип.— Вы и так почти со всеми на ножах.
— И это вас не касается.
— Вы правы.
Филип принялся за работу, недоумевая, почему Фанни Прайс ведет себя так враждебно. Он почувствовал, что она ему глубоко антипатична. Как и всем остальным. Люди старались ее не задевать, опасаясь ее злого языка: и в лицо и за глаза она говорила обо всех ужасные гадости. Но у Филипа было такое хорошее настроение, что ему хотелось жить в мире даже с мисс Прайс. Он пустил в ход испытанное средство:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу