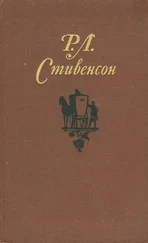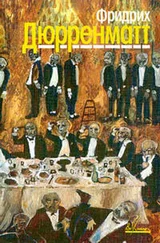Стрикленд, наверно, с минуту задумчиво смотрел на меня. Я молчал.
— В жизни его не видел,— объявил он наконец.
Не знаю, зачем он это сказал, от меня все равно не укрылся огонек в его глазах — он, несомненно, узнал меня. Но теперь я не так легко конфузился, как несколько лет назад.
— Я на днях говорил с вашей женой и уверен, что вам будет интересно узнать о ней столь свежие новости.
В ответ послышался короткий смешок. Глаза Стрикленда блеснули.
— Мы тогда славно провели вечер,— сказал он.— Сколько лет назад это было?
— Пять.
Он спросил еще абсенту. Струве начал многословно объяснять, как мы с ним встретились и как в разговоре случайно выяснилось, что мы оба знаем Стрикленда. Не знаю, слушал ли его Стрикленд. Раза два он задумчиво взглянул на меня, но большей частью был погружен в собственные мысли, и, конечно, без болтовни Струве мне было бы нелегко поддерживать разговор. Минут через двадцать голландец поглядел на часы и объявил, что ему пора. Он спросил, пойду ли я с ним. Мне подумалось, что наедине я кое-что вытяну из Стрикленда, и я решил остаться.
После ухода толстяка я сказал:
— Дирк Струве считает вас великим художником.
— А почему, черт возьми, это должно интересовать меня?
— Вы позволите мне посмотреть ваши картины?
— Это еще зачем?
— Возможно, что мне захочется приобрести одну из них.
— Возможно, что мне не захочется ее продать.
— Надо думать, вы хорошо зарабатываете живописью? — с улыбкой спросил я.
Он фыркнул.
— Вы это заметили по моему виду?
— У вас вид вконец изголодавшегося человека.
— Так оно и есть.
— Тогда пойдемте обедать.
— Почему вы мне это предлагаете?
— Во всяком случае, не из жалости,— холодно отвечал я.— Ей-богу, мне наплевать, умрете вы с голоду или не умрете.
Глаза его снова зажглись.
— В таком случае пошли.— Он поднялся с места.— Неплохая штука — хороший обед.
Предоставив ему выбор ресторана, я по дороге купил газету. Когда мы заказали обед, я развернул ее, прислонил к бутылке «Сен-Гальмье» и углубился в чтение. Ели мы молча. Время от времени я чувствовал на себе взгляд Стрикленда, но сам не поднимал глаз. Мне хотелось во что бы то ни стало вызвать его на разговор.
— Есть что-нибудь интересное в газете? — спросил он под самый конец нашего молчаливого обеда.
В его тоне мне послышалось легкое раздражение.
— Я люблю читать фельетоны о театре,— отвечал я, складывая газету.
— Я с удовольствием пообедал,— заметил он.
— А не выпить ли нам здесь же кофе?
— Можно.
Мы взяли по сигаре. Я курил молча, но заметил, что в глазах его мелькал смех, когда он взглядывал на меня. Я терпеливо ждал.
— Что вы делали все эти годы? — спросил он наконец.
Что мог я рассказать о себе? Это была бы летопись тяжелого труда и малых дерзаний; попыток то в одном, то в другом направлении; постепенного познания книг и людей. Я со своей стороны остерегался расспрашивать Стрикленда о его делах и жизни, не выказывая ни малейшего интереса к его особе, и под конец был вознагражден. Он заговорил первый. Но, начисто лишенный дара красноречия, лишь отдельными вехами отметил пройденный путь, и мне пришлось заполнять пробелы с помощью собственного воображения. Это были танталовы муки — слушать, как скупыми намеками говорит о себе человек, так сильно меня интересовавший. Точно я читал неразборчивую, стертую рукопись. В общем, мне стало ясно, что жизнь его была непрестанной борьбой с разнообразнейшими трудностями. Но понял я и то, что многое предельно страшное для большинства людей его нисколько не страшило. Стрикленда резко отличало от его соплеменников полное пренебрежение к комфорту. Он с полнейшим равнодушием жил в убогой комнатке, у него не было потребности окружать себя красивыми вещами. Я убежден, что он даже не замечал, до какой степени грязны у него обои. Он не нуждался в креслах и предпочитал сидеть на кухонной табуретке. Он ел с жадностью, но что́ есть, ему было безразлично; пища была для него только средством заглушить сосущее чувство голода, а когда ее не находилось, ну что ж, он голодал. Я узнал, что в течение полугода его ежедневный рацион состоял из ломтя хлеба и бутылки молока. Чувственный по природе, он оставался равнодушен ко всему, что возбуждает чувственность. Нужда его не тяготила, и он, как это ни поразительно, всецело жил жизнью духа.
Когда подошла к концу скромная сумма, которую Стрикленд привез из Лондона, он не впал в отчаяние. Картины его не продавались, да он, по-моему, особенно и не старался продать их и предпочел пуститься на поиски какого-нибудь заработка. С мрачным юмором рассказывал он о временах, когда ему в качестве гида приходилось знакомить любопытных лондонцев с ночной жизнью Парижа; это занятие более или менее соответствовало его сардоническому нраву, и он каким-то образом умудрился досконально изучить самые «пропащие» кварталы Парижа. Много часов подряд шагал он по бульвару Мадлен, выискивая англичан, желательно подвыпивших и охочих до запрещенных законом зрелищ. Иной раз Стрикленду удавалось заработать кругленькую сумму, но под конец он так обносился, что его лохмотья отпугивали туристов и мало у кого хватало мужества довериться гиду-оборванцу. Затем ему снова посчастливилось, он достал работу — переводил рекламы патентованных лекарств, которые посылались в Англию, а однажды, во время забастовки, работал маляром.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу