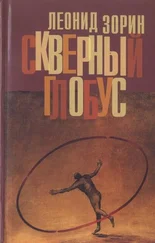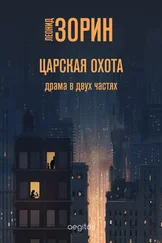— Ты нездоров. Тебе надо заснуть.
— Прекрасно ты знаешь, что я не засну.
— Послушай, — в глазах ее появился знакомый мне драматический отсвет, — следует все-таки объясниться. То, что нас сильно тянет друг к другу, это еще не последняя правда.
— Нет, это и есть конечная правда, — сказал я, — а все прочее — чушь.
Она упрямо мотнула головкой.
— Есть правда, которая в нас и с нами, есть правда, которая выше нас. Она-то и решает судьбу. Не спорь и доверься мне. Кроме всего, родство со мной
— не лучший подарок.
Слово «родство» могло отрезвить, но я продолжал, понимая, что втягиваюсь в очень опасную игру:
— Я ведь и сам способен думать.
— Женщина думает за двоих.
Все же она у меня осталась. Я понимал, что она права, но я не мог ее отпустить. Однако я понимал и то, что не дало ей шагнуть за порог. Вернуться сегодня в свое жилье было свыше даже ее возможностей.
Я знал, что ее мне не удержать. Я знал это каждое мгновение, отбитое у ночи, у мира, отвоеванное и остановленное. Знал и не мог ничего с этим сделать, хотя все и было так бесконечно, так переполнено, так подробно и вдруг
— так грозно и оглушительно, и вновь — так нежно, отец и мать не знают, что есть такая нежность, все заново — весь путь до исхода, пока я не понял, что то была первая женщина в моей жизни.
А когда утром она ушла, я понял и то, что значит разлука, не та, что приходит, потом уходит, растаскивается в грошовых куплетах, а та, долетевшая из старины, николаевская, бессрочная, вечная — рекрута взяли на царскую службу, на злую кавказскую войну, с которой ему домой не вернуться. Казалось, что не Борис Богушевич, что я это, я, уехал в Неметчину, в другую страну, в чужую чужбину, где буду я жить один-одинешенек.
В февральский день восемьдесят четвертого, расположившись у телевизора, смотрел я, как хоронили Андропова. Один за другим сменяли друг друга люди в почетном карауле. Лица их омрачала скорбь, но была она не высокой, не божеской, а нервной, суетной, напряженной, связанной с мыслями об их будущем. Эти заботы, вполне очевидные, мешали им разделить печаль осиротевшего семейства. Впрочем, должно быть, их донимал горький вопрос: так кто же следующий?
Среди ветеранских лиц я приметил каменные скулы Рычкова. Афиноген изменился заметно. Плешь его стала еще внушительней, а шея сморщилась в старческих складках. Но взгляд был, как прежде, грозен, страстен и выражал непримиримость.
Мысленно не раз и не два я возвращался к этому дню. Вот уже март пришел в Москву, в студеном воздухе я улавливал робкие весенние всхлипы, а все еще спрашивал себя: как будет связано это событие, вдруг передавшее страну в руки безвестного канцеляриста, с обстоятельствами моей частной жизни? Слова Мельхиорова о сейсмографе, который торчит где-то во мне и время от времени подает приватный сигнал, не шли из ума.
Наше семейство все-таки дожило до исторического дня. Прекрасная Дама Павла Антоновича рухнула и ответила: да. Зря он на меня обижался, все вышло так, как я и предсказывал — она устала его отшивать. Вера Антоновна ликовала — двое благородных людей с их рафинированной интеллигентностью, к тому же, созданные друг для друга, соединились в конце концов.
Я засвидетельствовал свою радость — все же ее проняла его верность и образцовая московская речь. На самом же деле я понимал, что неприступное сердце дамы не столько прозрело, сколько смирилось. Но трезвый взгляд тут был неуместен, да и отец был очень доволен — возможно, оттого, что визиты Павла Антоновича сократятся. Не было никакого резона делиться своими соображениями.
С невестой я свел знакомство на свадьбе. Это была осенняя астра с внутренним миром и диатезом. Волоокая, с правильными чертами круглого кукольного лица. Она, безусловно, могла рассчитывать на более завидный подарок, чем младший брат старшей сестры. Скорее всего, она слишком резко обнаруживала свои претензии. В итоге никого не осталось, кроме настойчивого зануды.
Напротив меня сидел пожилой серебряноголовый мужчина с большими развесистыми ушами, похожими на два спущенных паруса. Он беспрерывно мне улыбался. На всякий случай я отвечал ему такими же теплыми ухмылками. Он был гостем со стороны невесты, звали его Рубеном Ервандовичем. По предложению Павла Антоновича его и выбрали тамадой. Тосты следовали один за другим.
Настал мой черед, и обладатель поникших парусов дал мне слово. Я с грустью подумал о Мельхиорове — уж он бы сказал эталонный спич. Стараясь ни разу не усмехнуться, я произнес похвалу терпению. Оно и явилось тем белым конем, на котором (если быть точным — в котором) наш Одиссей (то есть Павел Антонович) въехал в Трою (сиречь — в семейную жизнь). Малодушные люди давно бы признали, что им орешек не по зубам. Но не таков наш Павел Антонович. Не отчаиваясь, с кротовьим упорством, он прогрызал свой путь к твердыне. Его выдающиеся достоинства, скрытые до поры до времени, пробились и стали всем очевидны. Прежде всего — Розалии Карловне (именно так звали невесту). Бессмертные пушкинские строки о рыцаре бедном, в том нет сомнения, относятся и к Павлу Антоновичу. Однако на этот раз «свет небес, святая Роза» к нему снизошла. Счастливый исход увенчал его преданность.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу