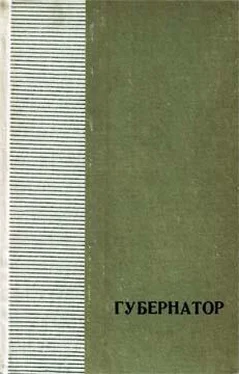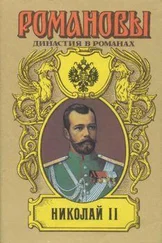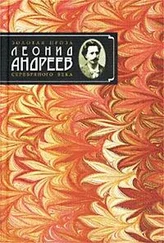— Это тебе за гостя. Гость забыл дать на чай.
Казак стоял и низко кланялся.
Радостный, помолодевший, как будто увидевший, наконец, то, о чем только мечтал, губернатор пошел наверх, к Сониной комнате, постучал к ней в дверь и спросил:
— Спишь?
— Сплю, — послышался ответ.
— Понравился тебе Броцкий?
Соня, видимо, подумала и не сразу ответила:
— Ничего себе, приятный старик. Похожий на старого гусара.
— Верно, на гусара.
Пошел губернатор в темные комнаты. Было досадно, что в спальне ожидает его теперь Свирин. Дал он ему какой-то красноватый порошок и велел запить теплой горькой водой.
— Варенье-то хорошее! — сказал губернатор, — Я пошутил тогда.
Свирин был сердит, ничего не ответил и, погасив свет, ушел.
Губернатору показалось, что Свирин сердится за приглашение Броцкого.
— Эх ты, дурак! — мысленно сказал ему он. — Если бы ты знал…
Он натянул на себя одеяло и долго, до рассвета, думал о там, что каким бы огромным, никогда не испытанным счастьем было то, если бы Соня и в самом деле говорила с ним о своей любви, о своем горе, о своих думах.
Рассвет с каждым днем начинался все позже и позже; окна синели вяло, неохотно и долго спустя после того, как в столовой часы уже били шесть раз.
XXX
В женском монастыре, в шести верстах от города, поднимали на главную колокольню новый колокол, — большой, весом в 513 пудов, отлитый в память избавления от холеры.
Приезжала сама игуменья, мать Архелая, и приглашала губернатора на торжество. Лицо игуменьи было белое, крупитчатое, и морщинки — какие-то особенные, аккуратные, словно наведенные тушью. Мягкий клобук полузакрывал ее лоб, так что волос не было видно; одевалась она во все широкое и черное, и как-то особенно были видны ее щурящиеся, бледно-голубые глаза и маленькие, пухлые ручки с утолщениями суставного ревматизма.
Ко дню поднятия в монастырь наехало множество всякого народа: монахов, купчих, богомолок, странников. В губернии не было ни мощей, ни чудотворных икон, и потому монастырь, единственный, знаменитый прорицательницей, матерью Домной, пользовался уважением и известностью. Домна однажды предсказала вице-губернатору Рокке, что он скоро умрет, и, действительно, Рокке, купаясь в ерогипском пруду, утонул от судороги ноги.
Монастырский храм, большой, трехпрестольный, не вместил всех приехавших: те, кто не попал к обедне, разместились по кельям, гостиницам или просто на дворе. То и дело слышались словесные схватки:
— Ты по какому, Ирод, праву благословляешь народ?
— А ты, милый, из какой такой губернии происходишь, что я тебе должен отчет давать? Какое, скажи, будь ласков, право особливое нужно иметь, чтобы взять вот и перекрестить дитя? Ну?
— Поговори! Скажу вот протопопу — он живым манером тебя в узилище приправит.
— Не токмо-чи к протопопу, а к самой протопопихе валяй! А я вот возьму и еще благословлю. Девочка! Подь сюда. Наклони голову. Во имя отца и сына и святого духа… Ну — вот и иди себе с богом. А ты ступай, протопопу своему ударь языком пониже спины.
Обедню служил Герман: необычайный, весь золотой, благословлял народ дикириями и трикириями, которые справа и слева подносили ему мальчики в зеленых стихирях. Дьякона служили ему, как царю, а хор, приехавший из города, пел ему на древнегреческом языке хвалебные песни и многолетия. Протодиакон, большой человек с вьющимися до самых плеч волосами, в стихаре, оттопыривающемся спереди, угнувшись подбородком в шею, по которой вверх и вниз ходил крупный костлявый кадык, басил перед Германом:
— Тако да просветится свет твой пред человеки, и да видят добрыя дела твои…
Было смешно, что такие красивые и торжественные слова относятся к архиерею Герману, про скупость, льстивость и угодливость которого знала вся губерния.
Прекрасно пел хор херувимскую песнь. Под сводами храма перемешивались голоса и детские, и возмужалые, переливались из одного медленного аккорда в другой и тянули звуки: и, е, у, — получалось что-то неразборчивое, но необыкновенно красивое. Протодиакон важно ходил по амвону и, громко встряхивая кадилом, как-то особенно при поворотах перебрасывая его через плечо, кланяясь и, видимо, любуясь своей важностью, кадил иконам и народу. Потом начался великий выход: поминали, держа в руках сосуды, царствующий дом, а когда кончили и повернулись к царским вратам, их встретил Герман и принял из рук протодиакона дискос, покрытый вышитым воздухом. Передавая дискос, протодиакон медленно опустился на одно колено, наклонил голову и сдержанно, но разборчиво пробасил:
Читать дальше