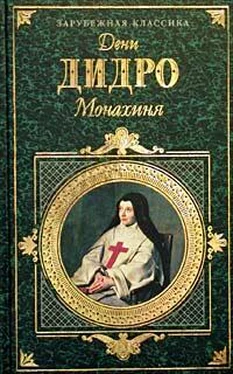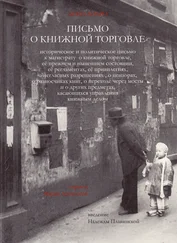Меня не допускали ни к какой работе. В церкви по обе стороны от меня оставляли по одному пустому сиденью. В трапезной я сидела за отдельным столом, и мне ничего не подавали. Я вынуждена была сама ходить на кухню и просить свою порцию. В первый раз сестра-стряпуха крикнула мне:
— Не входите, отойдите подальше.
Я повиновалась.
— Что вам надо?
— Есть.
— Есть! Вы недостойны жить…
Иногда я уходила и оставалась целый день без пищи, иногда же требовала ее, и мне ставили на пол еду, которую постыдились бы дать скотине. Я со слезами подбирала ее и уходила. Если мне случалось последней подойти к двери, ведущей на клирос, она оказывалась запертой. Тогда я становилась на колени и ждала конца службы. Если запертой оказывалась садовая калитка, я возвращалась в свою келью. Между тем силы мои все убывали от недостаточности и дурного качества пищи, которую мне давали, а главное — от горя, причиняемого мне этими постоянными проявлениями бесчеловечности. Я почувствовала, что, если буду по-прежнему страдать молча, мне ни за что не дожить до конца моего процесса. Итак, я решила поговорить с настоятельницей. Полумертвая от страха, я все же подошла к ее двери и тихонько постучалась. Она отворила. Увидев меня, она отступила на несколько шагов с криком:
— Вероотступница, отойдите!
Я отошла.
— Дальше.
Я отошла дальше.
— Что вам надо?
— Ни бог, ни люди не приговаривали меня к смерти, поэтому я прошу вас, сударыня, приказать, чтобы мне дали жить.
— Жить! Да разве вы достойны жить? — сказала она, повторяя слова сестры-стряпухи.
— Про то знает бог, и я предупреждаю, что, если мне будут отказывать в пище, я вынуждена буду подать жалобу лицам, принявшим меня под свое покровительство. Я нахожусь здесь лишь временно, до тех пор, пока не решится мое пребывание в монашестве, пока не решится моя участь.
— Идите, — сказала она, — не оскверняйте меня своим взглядом. Я распоряжусь…
Я повернулась и резко захлопнула дверь. Должно быть, она отдала соответствующее распоряжение, но мне отнюдь не стало легче, так как считалось заслугой не подчиняться ей в этом: мне швыряли самую грубую пищу да еще портили ее, примешивая к ней золу и всякие отбросы.
Такую жизнь вела я, пока тянулся мой процесс. Вход в приемную не был мне окончательно запрещен, у меня не могли отнять право говорить с судьями и адвокатом, но, чтобы добиться свидания со мной, последнему неоднократно приходилось прибегать к угрозам. В этих случаях меня сопровождала одна из сестер. Она была недовольна, когда я говорила тихо, сердилась, если я задерживалась слишком долго, прерывала меня, опровергала, противоречила мне, повторяла настоятельнице мои слова, искажая их, истолковывая в дурном смысле, быть может, даже приписывая мне то, чего я вовсе не говорила. Дело дошло до того, что меня начали обворовывать, похищать мои вещи, забирать мои стулья, простыни, матрацы. Мне перестали давать чистое белье, моя одежда изорвалась, я ходила почти босая. С трудом удавалось мне добывать себе воду. Много раз приходилось самой ходить за ней к колодцу — к тому самому колодцу, о котором я вам говорила. Всю мою посуду перебили, и, не имея возможности унести воду домой, я должна была пить ее тут же на месте. Под окнами келий я должна была проходить как можно скорее, чтобы не быть облитой нечистотами. Некоторые сестры плевали мне в лицо. Я стала ужасающе грязна. Опасаясь, как бы я не пожаловалась на все это нашим духовникам, мне запретили ходить на исповедь.
Однажды в большой праздник — кажется, это был день Вознесения — меня заперли на замок в келье, и я не смогла пойти к обедне. Быть может, я была бы совершенно лишена возможности посещать церковную службу, если бы не г-н Манури, которому сначала говорили, что никто не знает, где я, что я куда-то исчезла и не исполняю никаких обязанностей, подобающих христианке. Между тем, исцарапав себе руки, я все же сломала замок и дошла до двери, ведущей на клирос; она оказалась запертой, как это бывало всегда, когда я приходила не из первых. Я легла на пол, прислонившись головой и спиной к стене и скрестив на груди руки, так что мое тело загораживало дорогу. Когда служба кончилась и монахини начали выходить, первая из них внезапно остановилась. Вслед за ней остановились и остальные. Настоятельница поняла, в чем дело, и сказала:
— Шагайте по ней, это все равно что труп.
Некоторые повиновались и начали топтать меня ногами. Другие оказались более человечными, но ни одна не посмела протянуть мне руку и поднять меня. Во время моего отсутствия у меня похитили из кельи мою молитвенную скамеечку, портрет основательницы нашего монастыря, все иконы, унесли даже и распятие. Мне оставили лишь то, которое было у меня на четках, но вскоре забрали и его. Таким-то образом я жила в голых четырех стенах, в комнате без двери, без стула — я вынуждена была теперь либо стоять, либо лежать на соломенном тюфяке. У меня не было никакой, даже самой необходимой посуды, что вынуждало меня выходить ночью для удовлетворения естественной надобности, а наутро меня обвиняли в том, что я нарушаю покой монастыря, брожу, теряю рассудок. Так как келья моя больше не запиралась, ночью ко мне с шумом входили, кричали, трясли мою кровать, били стекла, всячески пугали меня. Шум доходил до верхнего этажа, доносился до нижнего, и те монахини, которые не состояли в заговоре, говорили, что в моей комнате происходят странные вещи, что оттуда слышны зловещие голоса, крики, лязг цепей, что я разговариваю с привидениями и злыми духами, что, должно быть, я продала душу дьяволу и надо бежать вон из моего коридора.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу