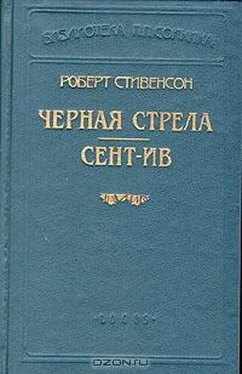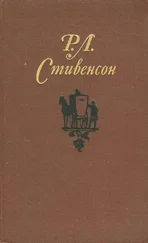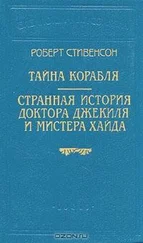— Может быть, его еще спасут! — кричал я.
Вахмистр напомнил нам о нашем обязательстве молчать.
— Если бы вы были ранены, вам бы пришлось лежать здесь до прихода патруля. Ранен Гогела — значит, ему следует терпеть. Пойдемте, дитя мое, пора нам. — Я все еще противился. Тогда Лекло сказал: — Шамдивер, это же слабость! Вы огорчаете меня.
— Ну, в постели! — сказал Гогела и назвал нас одним из своих обычных веселых и грубых эпитетов.
Наша партия лежала в темноте, все притворялись спящими; в действительности же, конечно, сон был далек от пленников, помещавшихся в сарае «Б». Стоял еще не поздний час ночи; снизу из города доносился грохот колес, шум шагов, голоса. Пелена облаков разорвалась; в промежутке неба, видневшемся между застрехой навеса и неправильной линией контура укреплений, появилось множество звезд. Близ нас лежал Гогела и иногда не мог удержаться от стона.
Мы издали услыхали шаги патруля; было слышно, как он медленно подходил к нам. Наконец сторожевой отряд повернул за угол; теперь мы могли его видеть, шла двойная линия людей; капрал нес в руке фонарь, он светил им в разные стороны, чтобы иметь возможность осмотреть все дальние углы двориков и сараев.
— Э! — крикнул капрал, очутившись подле Гогелы.
Капрал остановился. В каждом из нас замерло сердце.
— Какой черт сделал это! — вскрикнул он и громовым голосом позвал стражу.
В то же мгновение все мы вскочили. Перед сараем столпились еще другие солдаты с фонарями; вперед протолкался офицер. Посреди собравшегося множества людей лежало большое, нагое, окровавленное тело. Кто-то, лишь только Гогела был ранен, накинул на него свое одеяло, но несчастный испытывал такие муки, что почти совершенно сбросил его с себя.
— Это убийство, — крикнул офицер. — Эй вы, дикие звери, вы услышите завтра кое-что об этом!
Когда Гогелу подняли и положили на носилки, он крикнул нам на прощание несколько веселых слов.
ГЛАВА III
В рассказе появляется майор Чевеникс, а Гогела исчезает с его страниц
О выздоровлении Гогелы даже не было речи; поэтому начальство, не теряя времени, допросило раненого. Он дал только одно показание: ему надоело видеть такое множество англичан, и он сам сделал это. Доктор стал уверять, что нанести самому себе рану, имеющую такой характер и направление — невозможно. На это Гогела возразил, что он остроумнее, чем все предполагают, что он воткнул оружие в землю и бросился на него, «совершенно как Навуходоносор», прибавил умиравший, подмигивая присутствовавшим при этой сцене. Доктор, маленький, щеголеватый, румяный человечек нетерпеливого характера, сердился и горячился, бранил и клял своего пациента.
— Ничего с ним нельзя сделать! — кричал он. — Чистый язычник! Надо бы найти его оружие!
Но оружия уже не существовало; только в желобе замка валялась просмоленная бечевка, да куски палок лежали в укромном уголке, а утром можно было видеть, как, наслаждаясь свежим воздухом, щеголь-пленник подстригал ножницами свои ногти.
Увидав, что раненый непоколебимо тверд, власти обратились к нам. Перевернули все до последнего камня. Нас множество раз призывали к допросу, то поодиночке, то по двое, то по трое. Нам грозили невозможными жестокостями, соблазняли невероятными наградами. Кажется, меня допрашивали раз пять, и я каждый раз возвращался назад, чувствуя, что с моего лица сбежали все краски. Я, как старик Суворов, не допускаю, чтобы вопрос мог поставить солдата в тупик; мне кажется, воин должен отвечать так же, как идет в огонь — весело и не задумываясь. Часто мне недоставало хлеба, золота, и т. д., но у меня всегда находился готовый ответ. Может быть, мои товарищи не могли говорить с такой свободой, зато у них было не меньше твердости и упорства, чем у меня. Я могу сказать, что это следствие не привело ни к чему, что смерть Гогелы осталась тюремной тайной. Таковы-то французские ветераны! Однако я не буду лукавить и замечу, что совершенно особые обстоятельства сопровождали то, что происходило; может быть, при обыкновенных условиях кто-нибудь из пленников запнулся бы, или, вследствие запугивания, проговорился бы. Между нами существовали узы, связывавшие нас гораздо теснее, нежели те, которые обыкновенно соединяют товарищей: все мы хранили одну общую тайну, все питали одинаковое намерение. Нечего даже спрашивать, какого рода тайна, какого рода намерения занимали нас: только одни желания, один род стремлений и расцветают в тюрьмах. Наш подкоп был почти готов, и это поддерживало и вдохновляло нас.
Читать дальше