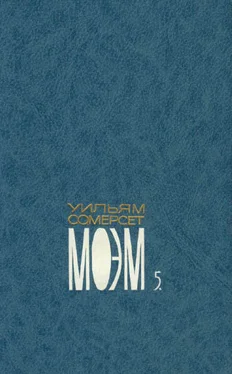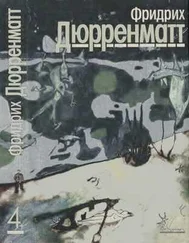Я, однако, так далеко не бывал. Весь день, как и предыдущие семь дней, мои пять гребцов гребли стоя, и в моих ушах все еще отдавался монотонный стук весел о деревянную чеку, служившую уключиной. Порой вода становилась очень мелкой, и лодка, задев камень на дне, останавливалась с резким толчком. Тогда двое-трое гребцов засучивали синие штанины по бедра и спускались за борт. Под дружные крики они стаскивали плоскодонку с места. Иногда впереди показывались быстрины — совсем пустячные, если сравнить их с бурными быстринами Янцзы, но тем не менее джонки, идущие по течению, преодолевали их только с помощью бечевы, а мы проносились через них под множество воплей, взлетали на пенящиеся буруны и вдруг оказывались на плесе, спокойном и зеркальном, точно озеро.
А теперь была ночь, и гребцы спали вповалку на носу под навесом, какой им удалось соорудить, когда мы в сумерках причалили к берегу. Я сидел на моей постели. Бамбуковые циновки на трех деревянных арках образовывали подобие каюты, которая в течение недели служила мне гостиной и спальней. С четвертой стороны ее замыкала дощатая стена, сбитая так грубо, что между досками оставались широкие щели. Сквозь них прорывался пронзительный ветер. По ту ее сторону лодочники — крепкие сильные ребята — днем гребли, а ночью спали,— и тогда к ним присоединялся кормчий, который в рваном синем одеянии, стеганой куртке выгоревшего серого цвета и черном тюрбане от зари до сумерек стоял у своего кормила — длинного тяжелого весла. Обстановку моей каюты составляли постель, блюдо, напоминавшее огромную глубокую тарелку, в котором тлел древесный уголь, потому что было холодно, корзина с моей одеждой, служившая мне столом, и фонарь, который был подвешен к одной из арок и чуть покачивался от течения вместе с лодкой. Каюта была такой низкой, что мне, человеку отнюдь не высокого роста (я утешаюсь наблюдением Бэкона, который указал, что высокие люди сходны с высокими домами в том, что верхний этаж у них обставлен наиболее скудно), почти приходилось наклонять голову. Кто-то из спящих захрапел громче и, возможно, разбудил двух других, потому что я услышал обмен фразами. Но вскоре голоса смолкли, храп не возобновился, и вновь вокруг сомкнулась тишина.
Внезапно у меня возникло ощущение, что здесь, прямо передо мной, почти касаясь меня, пребывает романтика, которую я всегда искал. Чувство, не похожее ни на одно другое, столь же конкретное, как упоение произведением искусства, хотя я абсолютно не знал, что именно подарило мне вдруг эту редчайшую эмоцию.
На протяжении моей жизни я часто оказывался в ситуациях, которые показались бы мне вполне романтическими, если бы я где-нибудь прочел о них. На деле же только потом, сравнив их с моими понятиями о романтике, я замечал в них что-то выходящее за рамки обыденности. Лишь усилием воображения, поставив себя, так сказать, на место зрителя, наблюдающего, как я же играю какую-то роль, мне удавалось уловить отзвуки необычайного в обстоятельствах, которые, касайся они других, сразу оделись бы для меня в радужные цвета. Я танцевал с актрисой, чье обаяние и талант сделали ее кумиром моей страны, или бродил по залам знаменитого дворца, где собрался весь цвет аристократии, как крови, так и духа, какой только мог похвастать Лондон,— но лишь потом я распознавал, что, пусть и несколько в манере Уйды, это, пожалуй, все-таки была романтика. Во время сражения, когда, сам особой опасности не подвергаясь, я наблюдал за происходящим с живым интересом, у меня не хватило флегматичности взять на себя роль зрителя. Ночью в полнолуние я плыл к коралловому острову в Тихом океане, и чудо красоты вдруг наполнило меня счастьем,— но лишь потом пришло пьянящее чувство, что я соприкоснулся с романтикой кончиками пальцев. Трепет ее крыльев я услышал, когда однажды сидел в номере нью-йоркского отеля за столом с еще шестерыми и мы строили планы возрождения древнего царства, беды которого уже век как вдохновляли поэтов и патриотов,— но главным моим чувством было ироническое удивление, что волей войны я оказался участником дела, совершенно чуждого моей натуре. Подлинный романтический восторг овладевал мной при обстоятельствах, которые другим показались бы далеко не такими романтичными, и, помню, впервые я испытал его как-то вечером, когда играл в карты в хижине на побережье Бретани. В соседней комнате умирал старый рыбак, и женщины говорили, что он скончается с отливом. Снаружи бушевала буря, и казалось на редкость уместным, что дряхлый боец с морской стихией уйдет из жизни под дикие вопли ветра, бьющего в ставни на окнах. Волны с громом обрушивались на измученные скалы. И я испытывал ликующее торжество, потому что знал — здесь властвует романтика.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу