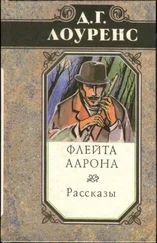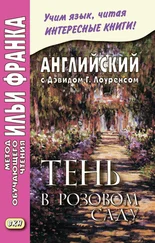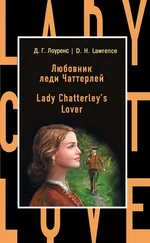Это немеркнущее сияние моря и яркий отблеск его в небесах были странны, и странно уютным казалось кладбище — укрытое холмом, залитое солнцем, притягивавшее солнечные лучи и не выпускавшее их, как не выпускают пчелу, пойманную и зажатую между ладонями, пока она не затихнет там. Седая трава, лишайники, часовня, и подснежники в жесткой траве, и горсть невероятно теплого солнечного света.
Но на душе у нее было тревожно. Стоило зашебуршиться птице в кустах вокруг, и она пугалась неизвестно чего. А колокольчики вокруг излучали призрачный свет и казались одушевленными, чьими-то тенями, притаившимися за деревьями. Лето пришло, и болота наполнились колокольчиками, как наполняются водой дорожные колеи, вереск розовел под небесами, рассветно пробуждая весь мир. А ей было нехорошо. Она шарахалась от кустов дрока, словно от привидений, и вступала в заросли вереска, как в ледяную ванну, от которой стынет кровь. И пальцы ее замирали, поглаживая стиснутые в кулачок пальцы ребенка, и растерянная, она слышала недовольный голос дочки, пытавшейся ее разговорить.
И вновь она скрылась в темной пещере, где долго оставалась в безопасной отрешенности от жизни. Но пришла осень, и ярко заалели в листве, певучие малиновки, а потом темные болота сковала зима, и она с какой-то яростью опять обратилась лицом к жизни, требовательно испрашивая от нее прежнего, чтобы все было как тогда, в детстве, под родным небом, на просторе. Равнину замело снегом, и лишь телеграфные столбы вышагивали из белизны сугробов и тянулись в сумеречную даль. И в ней пробудилось вновь яростное желание, чтобы вернулась Польша, а с нею — юность и свобода.
Но не видно было ни саней с колокольцами, ни крестьян в овчинных тулупах, ясноглазых, как новорожденные, с румяными лицами, казавшимися особенно свежими и красивыми на морозце, когда ложился, освещая все вокруг, первый снег. Но время ее юности не возвращалось, и пути назад не было. После недолгой и мучительной схватки с собой она удалялась в сумрак монастыря, где по стенам лютовали бесы во главе с самим Сатаной, где высился на победном кресте Иисус.
Из комнаты больного она следила, как завивается, словно торопливый рой теней, снежная поземка — тени обгоняли друг друга, спеша к какой-то неведомой, но очень важной цели, и растворялись за неподвижной неизменностью свинцового морского горизонта, за незыблемой белой гранью берега с пятнами черных, полузаваленных снегом скал. Но вблизи на ветвях деревьев хлопья снега были мягкими и нежными, как цветы. И тишина — лишь голос умирающего за ее спиной, унылый и жалобный, отрывал от созерцания.
Но когда показались подснежники, священник умер. Он умер, и со странным хладнокровием, словно приходя в себя, женщина глядела теперь на кромку травы возле дома, где под ветром белели подснежники — ветер рвал их и не мог сорвать. Она наблюдала, как трепещут и колышутся венчики, белые сомкнутые бутоны на тонких нитях серо-зеленых стебельков, таких хрупких и все же не дающих ветру сорвать и унести цветы. Когда утром она поднималась с постели, рассвет был как взбитый снежно-белый кипень, всплески света на востоке закручивались вихрем все сильнее и сильнее, пока не показывалась в них розово-золотистая краска и море внизу не вспыхивало ярким пламенем. Она оставалась бесстрастной и равнодушной, хотя и покинула мрак своего укрытия. Потом опять наступил темный период, пора привычного благоговейного ужаса, когда она рассеянно переместилась в Коссетей. Там поначалу была лишь пустота — серое ничто. Но однажды утром взгляд ее привлек светившийся золотом жасминовый куст, а после она стала внимать пению дроздов утром и вечером, настойчивым трелям, доносившимся из зарослей, пока сокрушенное сердце волей-неволей не запело в ответ, соревнуясь с птицами. В сознании роились тихие мелодии. Она испытывала смятение, порою мучительное. Противясь, она твердила себе, что сокрушена и разбита, и страх темноты оборачивался в ней страхом света. Она охотно сидела бы взаперти, если б это было возможно. Больше всего она ждала покоя, тяжкого забвения и прежней умиротворенности. Сознавать, чувствовать было невыносимо. Первые схватки этих новых родов казались такими болезненно-резкими, такими нестерпимыми. Уж лучше укрыться от жизни, чем быть разорванной и изувеченной родами, вытерпеть которые не было сил. Ей не хватало сил возвратиться к жизни в Англии, такой чужой, под небом, таким враждебным. Она понимала, что ей суждено зачахнуть здесь, как чахнет на февральском морозе до времени расцветший цветок, бледный и безуханный. И ей хотелось уберечь капельку еле теплившейся в ней жизни.
Читать дальше


![Дэвид Лоуренс - Lady Chatterley's Lover [С англо-русским словарем]](/books/26613/devid-lourens-lady-chatterley-s-lover-s-anglo-thumb.webp)