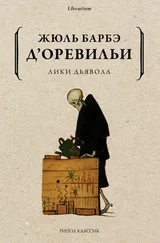Причем и добродушный крестьянин, и надменная аристократка, которую затянувшаяся старость лишила всех чувств, а может быть, бесчувственная от природы и закалившаяся в огне гражданских войн до стального холода, считали аббата тем загадочным и опасным человеком, которого нелегко позабыть, если хоть раз увидишь.
Дядюшка Тэнбуи говорил об аббате с чужих слов, видев всего два или три раза издалека в церкви, и можно было бы предположить, что он, заодно с остальными земляками, смотрит на него глазами страха, которые, как известно, весьма велики. Но старая графиня знала аббата не понаслышке. Они вместе обедали и ужинали, толковали о том о сем, а как известно, житейская привычка друг к другу уничтожает любые пьедесталы и самых великих людей превращает в заурядных.
— Видите это седалище? — спросила меня графиня в тот день, когда мы с ней беседовали, и указала восковым пальцем, унизанным кольцами до первой фаланги, на старинное кресло черного дерева, стоящее напротив ее собственного под балдахином. — В нем он провел немало часов, приезжая в Монсюрван. С тех пор в него никто не садился. Обычно я коротаю время в одиночестве; здесь, в гостиной, мое общество — портреты Монсюрванов и Тустенов (старая графиня Жаклина была урожденной Тустен), но, как только он въезжал во двор, я сразу узнавала стук копыт его лошади, и мое иссохшее сердце начинало биться быстрее, волнуя пожелтелые кружева на груди, словно я была невестой, а он долгожданным женихом. Мы и были обручены… с жизнью, которой давным-давно не стало. Дворецкий, дряхлый старичок Сутира — куда ни посмотри, меня окружает древность! — докладывал о его приезде и поднимал перед ним портьеру, трепеща от робости, потому что боялись аббата все. Он входил, затенив лицо капюшоном, и изуродованными губами касался моей руки. Я успела забыть о милом знаке почтительности с тех пор, как меня бросили на произвол революции и старости. Потом он садился в это кресло, произносил несколько слов и погружался в молчание. Каждый из нас молчал о своем. Потеряв надежду возродить борьбу шуанов в жалком краю, где крестьяне сражаются только за свой навоз, мы безмолвствовали — нам больше не о чем было говорить. Что он мог сообщить мне? Что я ему?
— Графиня! — воскликнул я, полагая, что суровая дружба, соединившая побежденного, но мужественного мужчину и обделенную всем, кроме жизни, женщину, не могла обходиться без слов сожаления или гнева. — Неужели вы совсем не разговаривали? Неужто молчание длилось годами?
— Всего-навсего два года, — уточнила она. — Столько он прожил в Белой Пустыни, распростившись со всеми надеждами. Да и о чем нам было беседовать?! Мы и без слов понимали друг друга. Нет, однажды он все же заговорил, — графиня опустила трясущуюся голову, словно искала воспоминаний там, где когда-то прятала любовные записки, — у себя на груди, — да-да, он заговорил, когда несчастный, обреченный судьбой герцог Энгиенский [38] Герцог Энгиенский Луи Антуан (1772–1804) — принц из дома Конде, боковой ветви Бурбонов. С начала Французской революции в эмиграции. Наполеон Бонапарт заподозрил его в намерении занять престол, отряд драгун похитил герцога, и он был расстрелян как участник заговора Ж. Кадудаля.
…
Она затруднилась продолжать. Понятное, вызывающее уважение затруднение, и я поспешил избавить ее от горького завершения фразы:
— Не надо, я понимаю.
— Конечно, понимаете, — согласилась она, и в холодной, выцветшей голубизне ее глаз вспыхнуло что-то вроде света, — но я сама могу все сказать, сто лет горя приучают губы выговаривать все до конца.
Помолчав, графиня заговорила вновь:
— В тот день он пришел раньше обычного, не поцеловал мне руки и сказал: «Герцог Энгиенский мертв. Он расстрелян в Венсенском лесу. Но у монархистов недостанет мужества отомстить за его смерть». Я вскрикнула в последний раз в своей жизни. Расхаживая взад и вперед по комнате, он рассказал все подробности ужасной смерти герцога. Потом сел, замолчал и больше уже никогда не нарушал молчания. — Жаклина де Монсюрван тоже погрузилась в молчание, потом вдруг добавила: — Собственно, для меня нет большой разницы, на каком аббат свете, на том или на этом. Я по-прежнему его вижу. Спросите у Васлины, я часто говорю ей вечером, когда она стоит возле меня с чашкой горького апельсинового сиропа: «Скажи, Васлина, не сидит ли кто-нибудь в черном кресле? Мне кажется, там сидит аббат де ла Круа-Жюган…»
Похожее на обет молчание, одевшее словно бы монашеской рясой двух изгоев — когда-то слывших столпами общества, — стало для меня последним штрихом, завершившим портрет аббата де ла Круа-Жюгана. Судьба-художник закончила его и повернула ко мне. И вот я всматриваюсь в портрет мужчины, из дружбы или по привычке приходившего провести вечер, молчаливо сидя в кресле, и приучившего молчать высокомерную женщину, не склонную поддаваться чужим влияниям. Необычный, неординарный человек, рожденный завораживать воображение. Он не нашел себе места в написанной истории, но остался в неписаной, ибо и у госпожи Истории есть свои рапсоды, как есть они у госпожи Поэзии. Невидимый многоустый Гомер запечатлел легенду о них в доверчивых душах. Сменяющие друг друга поколения приникают восторженными и простодушными устами к волшебному кусту легенды, отрывают от него листок за листком, пока не оборвут последний, — выцветет память, превратившись в прах забвения, и тогда навсегда исчезнут те необычные, проникнутые поэзией фигуры, что вдруг возникли среди рода человеческого.
Читать дальше
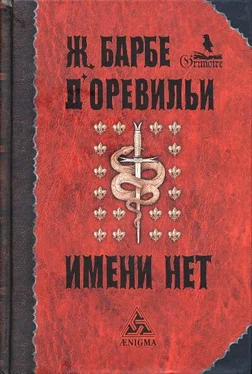
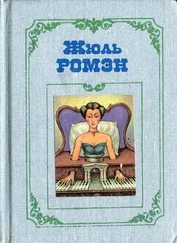
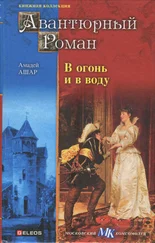



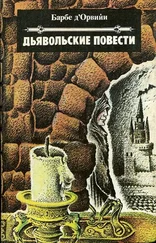

![Вадим Панов - Порченая кровь [litres]](/books/412947/vadim-panov-porchenaya-krov-litres-thumb.webp)