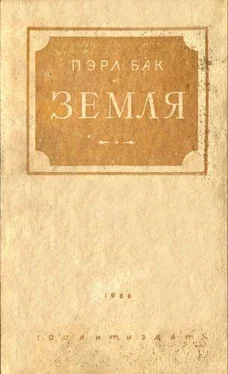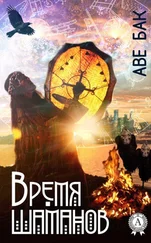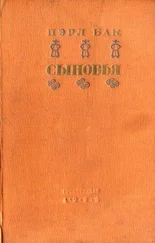Молодого человека уязвил этот упрек отца, потому что больше всего он боялся обвинений в том, что он не умеет себя вести, словно простолюдин и невежда, и он поспешно ответил:
— Это не из-за жены. Непристойно вести себя так в доме моего отца.
Но Ван-Лун его не слушал. Он раздумывал, нахмурясь, и потом сказал:
— Неужели я никогда не покончу с этими неурядицами в моем доме из-за мужчин и женщин? Я уже почти старик, и кровь моя остыла, я освободился наконец от желаний и хотел бы покоя. Неужели мне страдать из-за похоти и ревности моих сыновей?
И, помолчав немного, он добавил:
— Ну, чего же ты хочешь от меня?
Молодой человек терпеливо ждал, покуда уляжется гнев его отца, потому что он еще не высказался до конца. И это Ван-Лун ясно видел, когда крикнул ему: «Ну, чего же ты хочешь от меня?»
Тогда молодой человек ответил решительно:
— Я хочу, чтобы мы перебрались из этого дома в город и жили там. Не годится нам попрежнему жить в деревне, словно батракам. Мы могли бы уехать и оставить здесь дядю, и его жену, и двоюродного брата, и жить в безопасности за городскими воротами.
Ван-Лун засмеялся жестким и коротким смехом и отверг желание сына, как ничтожное и не заслуживающее внимания.
— Это мой дом, — сказал он твердо, садясь за стол и придвигая к себе трубку. — Живи здесь или убирайся отсюда! Это мой дом и моя земля. И если бы не земля, то мы голодали бы, как голодают другие, и ты не разгуливал бы в чистом платье, бездельничая, как ученый. Хорошая земля помогла тебе сделаться кое-чем получше крестьянского сына.
И Ван-Лун поднялся с места и, громко топая, стал расхаживать по комнате, и плевал на пол, и вел себя грубо, как крестьянин, потому что хотя, с одной стороны, он торжествовал, видя изнеженность сына, зато, с другой стороны, презирал его, несмотря на то, что втайне гордился сыном, и гордился именно потому, что никто, глядя на его сына, не догадался бы, что только одно поколение отделяет его от земли.
Но старший сын все еще не сдавался. Он ходил по пятам за отцом и говорил:
— Есть старый большой дом Хуанов. Передний двор битком набит простым народом, но внутренние дворы заперты и пусты. Мы могли бы снять их и мирно жить там. И ты с младшим братом ходил бы оттуда в поле, и меня не злил бы этот пес, двоюродный брат.
Он убеждал отца, и слезы выступили у него на глазах, он размазал их по щекам и прибавил:
— Что же, я стараюсь быть хорошим сыном: не играю в кости и не курю опиума, доволен женой, которую ты дал мне, и прошу немногого, — вот и все.
Неизвестно, могли ли одни только слезы растрогать Ван-Луна или нет, но его взволновали слова: «большой дом Хуанов».
Ван-Лун не мог забыть, как он когда-то смиренно входил в большой дом и стоял, робея в присутствии тех, кто был там, боялся даже привратника, и это на всю жизнь осталось у него позорным воспоминанием. Всю свою жизнь он чувствовал, что в глазах людей он ниже тех, которые живут в городе, а когда он стоял перед старой госпожой в большом доме, это чувство унижения было всего сильней. И когда сын сказал: «Мы могли бы жить в большом доме», в мозгу у него сверкнула мысль, и он словно увидел все это перед своими глазами: «Я мог бы сидеть в кресле, где сидела старуха и приказывала мне подойти, словно рабу, — теперь я сам мог бы сидеть в нем и приказывать другим». И он подумал и снова сказал себе: «Это я могу сделать, если захочу».
И, забавляясь этой мыслью, он сидел молча и не отвечал сыну. Набив трубку, он зажег ее стоявшей наготове лучиной, и курил, и мечтал о том, что он может сделать, если захочет. И не из-за своего сына, и не из-за сына дяди он стал мечтать о жизни в доме Хуанов, который для него так и остался «большим домом».
Поэтому, хотя он не сразу согласился переехать в город или что-нибудь изменить, все же с этих пор его стало больше сердить безделье племянника. Он следил за ним зорко и заметил, что он и вправду пристает к рабыням. И Ван-Лун жаловался и говорил:
— И не могу жить в одном доме с этим блудливым псом.
Он посмотрел на дядю и увидел, что тот похудел от курения опиума, и кожа у него пожелтела, и он согнулся и постарел, и кашлял кровью. Он посмотрел на жену дяди: она стала круглая, как капустный кочан, и жадно курила трубку с опиумом, и, довольная, дремала целый день. От них теперь было немного хлопот, и опиум сделал то, чего хотел Ван-Лун.
Но оставался еще сын дяди, до сих пор неженатый и похотливый, как дикий зверь. Он не так легко поддавался действию опиума, как оба старика, и похоть его не ослабевала в сонных видениях.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу