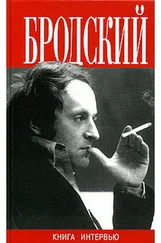По безнадежности все попытки воскресить прошлое похожи на старания постичь смысл жизни. Чувствуешь себя, как младенец, пытающийся схватить баскетбольный мяч: он выскальзывает из рук.
Я немногое помню из своей жизни, и то, что помню,— не слишком существенно. Значение большинства мыслей, некогда приходивших мне в голову, ограничивается тем временем, когда они возникли. Если же нет, то их, без сомнения, гораздо удачнее выразил кто-то еще. Биография писателя — в покрое его языка. Помню, например, что в возрасте лет десяти или одиннадцати мне пришло в голову, что изречение Маркса "Бытие определяет сознание" верно лишь до тех пор, пока сознание не овладело искусством отчуждения; далее сознание живет самостоятельно и может как регулировать, так и игнорировать существование. Для того возраста это, безусловно, было открытием — но отмечать его вряд ли стоит, и другие наверняка сформулировали его лучше. И так ли уж важно, кто первым раскусил духовную клинопись, прекрасным образчиком коей является "бытие определяет сознание"?
Так что пишу я это не для того, чтобы уточнить хронику жизни (таковой нет, а если и есть, то она несущественна и, следовательно, еще не искажена), а больше по той обыкновенной причине, по какой вообще пишет писатель: чтобы подхлестнуть язык — или себя языком, в данном случае чужестранным. То немногое, что я помню, сокращается еще больше, будучи вспоминаемо по-английски.
Для начала должен положиться на мою метрику, где сказано, что я родился 24 мая 1940 года в России, в Ленинграде, хоть и претит мне это название города, давно именуемого в просторечии Питером. Есть старое двустишие:
Старый Питер,
Бока повытер.
В национальном сознании город этот — безусловно Ленинград; с увеличением пошлости его содержимого он становится Ленинградом все больше и больше. Кроме того, слово "Ленинград" для русского уха звучит ныне так же нейтрально, как слово "строительство" или "колбаса". Я, однако, предпочту называть его Питером, ибо помню время, когда он не выглядел Ленинградом,— сразу же после войны. Серые, светло-зеленые фасады в выбоинах от пуль и осколков, бесконечные пустые улицы с редкими прохожими и автомобилями; облик голодный — и вследствие этого с большей определенностью и, если угодно, благородством черт. Худое, жесткое лицо, и абстрактный блеск реки, отраженный глазами его темных окон. Уцелевшего нельзя назвать именем Ленина.
За этими величественными выщербленными фасадами — среди старых пианино, вытертых ковров, пыльных картин в тяжелых бронзовых рамах, избежавших буржуйки остатков мебели (стулья гибли первыми) — слабо затеплилась жизнь. И помню, как по дороге в школу, проходя мимо этих фасадов, я погружался в фантазии о том, что творится внутри, в комнатах со старыми вспученными обоями. Надо сказать, что из этих фасадов и портиков — классических, в стиле модерн, эклектических, с их колоннами, пилястрами, лепными головами мифических животных и людей — из их орнаментов и кариатид, подпирающих балконы, из торсов в нишах подъездов я узнал об истории нашего мира больше, чем впоследствии из любой книги. Греция. Рим, Египет — все они были тут и все хранили следы артиллерийских обстрелов. А серое зеркало реки, иногда с буксиром, пыхтящим против течения, рассказало мне о бесконечности и стоицизме больше, чем математика и Зенон.
Все это имело мало отношения к Ленину, которого я, полагаю, невзлюбил с первого класса — не столько из-за его политической философии и деятельности, о которых в семилетнем возрасте я имел мало понятия, а из-за вездесущих его изображений, которые оккупировали чуть ли не все учебники, чуть ли не все стены в классах, марки, деньги и Бог знает что еще, запечатлев его в разных возрастах и на разных этапах жизни. Был крошка-Ленин в светлых кудряшках, похожий на херувима. Затем Ленин на третьем и четвертом десятке — лысеющий и напряженный, с тем бессмысленным выражением, которое можно принять за что угодно — желательно за целеустремленность. Лицо это преследует всякого русского, предлагая некую норму человеческой внешности — ибо полностью лишено индивидуального. (Может быть, благодаря отсутствию своеобразия оно и позволяет предположить много разных возможностей.) Затем был пожилой Ленин, лысый, с клиновидной бородкой, в темной тройке, иногда улыбающийся, а чаще обращающийся к "массам" с броневика или трибуны какого-нибудь партийного съезда, с простертой рукой.
Читать дальше