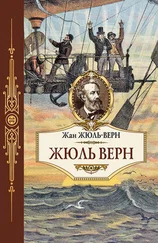Мне это было совсем нетрудно, и если порой я испытывал боль, то не от синяков, которые оставляла гиря, падая обратно мне на плечи, а от стыда, душившего меня при воспоминании о прошлом.
Однажды я увидел в публике женщину, походившую на мою мать. Поднятая гиря выскользнула у меня из рук и, описав кРУг, размозжила голову ребенка, которого держала на руках другая женщина.
Бедняжка, она даже не вскрикнула. Она упала, безмолвная и бледная как полотно.
Я хотел покончить с собой. Какое там! Будь у меня мужество, я уже давно сделал бы это, но нет, я был жалким трусом.
Быть может, также имя Виолетты, произнесенное Розитой, Нашей маленькой дочурки Виолетты, которая все еще жила у сестры Поваренка, оказалось целебным средством и утешением. Перед трупом этого чужого ребенка я вспомнил, что и у меня есть дочь.
Мне невозможно было оставаться дольше в тех краях, да и труппа не слишком стремилась удержать меня. Это ужасное происшествие тяготело над нами. Мы уехали.
Должен сказать, что Розита выказала себя нежной, любящей, преданной. Она нашла для моего утешения слова, полные ласки, и — увы! — именно с этим тяжелым периодом связаны у меня самые трогательные, самые дорогие воспоминания.
Я забыл несчастье, виновником которого был только случай. Случай? Но ведь если бы я не покинул свою мать, если бы не боялся встречи с ней, моя рука не дрогнула бы и гиря не убила бы ребенка…
Как бы то ни было, огонь страсти растопил упреки совести, и теперь я храбро, без особого стыда, соглашался на гадкие и жалкие авантюры, которые встречались на моем пути.
Я глотал камни, огонь; пил растопленный свинец.
Я входил в горящую печь с двумя сырыми цыплятами и выходил из нее с жареными.
Я клал на язык раскаленное железо и зажигал пунш в ладони.
— Вам был известен какой‑нибудь секрет?
— И да и нет. Каждый может без подготовки опустить руку в раскаленный металл; иногда приходится прибегать к помощи квасцов. Все это обходится недорого, зато и прибыли не дает: зрителям нужны сожженные языки и заживо горящие люди. Но пока еще никто не отважился на это.
Я начал глотать шпаги.
Моим учителем был сам Жан де Вир, фанатик своего дела, дон Жуан на пиршествах стали. Он занимался этим искусством domi et foris [6] Дома и на миру (лат.).
, на улице, в кафе, за столом; он засовывал в нос гвозди, и все видели, как потом они выходили у него из головы; он втыкал иголки в череп.
По праздникам он кутил вовсю: глотал длинный железный брус, украшенный толстыми шишками, узловатыми, как колени подагрика; он водил этот брус взад и вперед, смаковал его, словно это был сироп, потом выплевывал, и он с грохотом падал на мостовую.
— Какой черствый хлеб! — восклицал он при этом.
Умер он у нас на руках в первый день нового года, слишком глубоко засунув вилку, которой он любил играть и которую унес с собой на тот свет.
Умирая, он завещал мне свое хозяйство, все эти клинки, которые он отточил о стенки своего пищевода и которые побывали в темном подземелье его желудка.
У став от работы под открытым небом, я продал все это, купил несколько феноменов и решил устроить «пришел — ушел».
Эти два слова сами говорят за себя.
Так называют зрелища, сценой для которых служит старая грязная повозка, где пресмыкаются несколько отталкивающих монстров.
Открывается занавес, урод стоит или лежит, о нем рассказывают, или говорит он сам, зритель дает два су, приходит, уходит — вот откуда произошло это название.
Никаких расходов, кроме расхода на похлебку и подстилку для феноменов — двуногих или о пяти лапах.
Они смеются, плачут, блеют, рычат, растут или уменьшаются, сохнут или жиреют, — но все они должны дотянуть до конца, и накануне собственных похорон они все еще обязаны приветствовать публику, охорашиваться или изображать покойника, подавать руку, когти, показывать горб.
Чего только не увидишь в подобных балаганчиках! Какое смешение двуногих и четвероруких, ракообразных и млекопитающих! Какое множество варварских подделок и заимствований! Это ад, вымощенный чудовищными намерениями и изуродованными телами — зловещими сиротами, которых человек, созданный по образу и подобию божию, отказывается признать своими детьми!
— Оставим всех этих уродов. Я не буду больше рассказывать вам о них. Они могут рассердиться и сказать, что я клевещу, если мне случится забыть или добавить что‑либо, — эта порода легко приходит в раздражение, порода тех, кому природа чего‑то недодала или дала слишком много!
Читать дальше

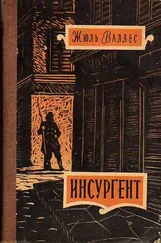



![Сергей Куковякин - Бакалавр 6 [СИ]](/books/431032/sergej-kukovyakin-bakalavr-6-si-thumb.webp)

![Сергей Куковякин - Бакалавр 4 [СИ]](/books/433299/sergej-kukovyakin-bakalavr-4-si-thumb.webp)
![Сергей Куковякин - Бакалавр 3 [СИ]](/books/433301/sergej-kukovyakin-bakalavr-3-si-thumb.webp)
![Сергей Куковякин - Бакалавр 2 [СИ]](/books/433302/sergej-kukovyakin-bakalavr-2-si-thumb.webp)
![Сергей Куковякин - Бакалавр 1 [СИ]](/books/433303/sergej-kukovyakin-bakalavr-1-si-thumb.webp)