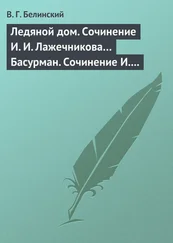В самом деле, Русалка пришел объявить им, что господин великий князь Иван Васильевич приказал им видеть свои царские очи: что и спешили они исполнить.
Они очутились в небольшой комнате. Иван Васильевич, облаченный в блестящую одежду, сидел на кресле из слоновой кости, в которой искусная, тонкая чекань греческой работы представила разные случаи из священной и светской истории. До него надо было взойти тремя ступенями, устланными червчатою камкой. По бокам стояли два боярина и возле одного скамейка, а на ней серебряный умывальник, блюдо и тонкое полотенце, кокетливо убранное кружевами. Над креслом висел портрет женщины, очень пригожей. Это изображение, или, как называли предки наши: «царевна, на иконе писанная», было прислано в Москву папою Павлом II [137]тогда, как шло сватовство великого князя за дочь Палеолога. По двум стенам держались ставцы из дуба, на вырезе из злата, в которых за стеклами стояла серебряная суда [138], назначенная, казалось, для употребления исполинов. Прибавьте к этому две кафельные печи с лежанками, разубранные цветами и грифами — вещь драгоценная в тогдашнее время. На столике, в простенке между двумя окнами, сидел зеленый попугай в своем красивом заточении, грустно повеся нос.
Когда Аристотель, служивший на этот раз переводчиком, представил лекаря, Иван Васильевич зорко посмотрел на приезжего, немного привстал с кресла и протянул ему руку, которую этот поцеловал, став на одно колено. Великому князю, тотчас после осквернения его руки нечистыми устами, поднесли умывальник и блюдо, но он слегка кивнул боярину, исполнявшему эту обязанность, давая ему знать, что она не нужна.
— О, да какой молодой! — сказал он Аристотелю. — У него и бороды нет.
— Умом своим и наукою перегнал он лета, — отвечал художник.
— Правда, у вас, в теплых краях, и люди спеют раньше нашего. Вот приезжал ко мне посол от краля римского, лицарь Николай Поплев [139], еще не моложе ль этого!
Потом расспрашивал он врача, доволен ли отпускаемыми припасами, не нужно ли ему чего, и когда Антон успокоил его на счет свой, завел с ним беседу о состоянии Италии, о папе, о политических отношениях тамошних государств и мнении, какое в них имеют о Руси. Умные вопросы свои и нередко умные возражения облекал он в грубые формы своего нрава, времени и местности. Довольный ответами Эренштейна, он не раз повторял Аристотелю с видимым удовольствием:
— Правда твоя, из молодых, да ранний! — Наконец обратил речь на способы лечения Антоном.
— Почем же узнать, какой у человека недуг? — спросил он, обратясь к лекарю.
— По тому, как дает о себе знать кровь в руке и каков язык, — отвечал Эренштейн.
— А вот мы сейчас попытаем, — сказал Иван Васильевич и вслед за тем приказал, чтобы все дворские люди поспешили в гридню.
Прибежали все один за другим, бледные, дрожащие, ожидая чего-то страшного от такого внезапного распоряжения. Им велено стать в один ряд, открыть рты и протянуть руки. И тут соблюден был порядок местничества, который был недавно введен и строго поддерживался. При этом инспекторском смотре надо было видеть страх, написанный на их длинных лицах. Не менее перепугались бы они, если б им собирались делать операцию. Однако ж нельзя было удержаться от смеха, смотря на коллекцию гримас, когда бедные пациенты высунули языки и протянули руки. Один плачевно выпускал язык, как теленок, которого готовят на заклание; у другого дрожал он, будто жало у змеи; третий открывал рот, как тощая кляча, которая зевает. Сам врач невольно усмехнулся. Когда ж несчастным объявили, что будут свидетельствовать состояние их здоровья, многих, от мысли быть очарованными немецким кудесником, бросило в лихорадку; с иными, послабее, едва не сделалась другая болезнь. Мысленно прочли они все молитвы, которые только знали; некоторых, несмотря, что взор Иоанна ударял в них своим грозным электричеством [140], отчаяние заставило произнести вслух: «Господи помилуй, отпусти раба твоего с миром». Каждого освидетельствовал Антон, каждому, с помощью Аристотеля, сделал вопросы, узаконенные наукой, и разрешил узы каждому, сказав, что он здоров и не требует никакого лекарства. Соловей перестал петь, а они все еще слушали, то есть лекарь перестал их свидетельствовать, а пациенты все еще высовывали язык и грозились кулаком. Властитель должен был приказать, чтоб и тот и другой вошли в обыкновенное свое положение. Сколько окроплений святою водой, сколько заклинаний ожидало их дома! Страх долго держал этих многотерпцев в когтях своих, но сильнее всех навел он тревогу на Бородатого и — кто бы подумал? — на Мамона. И вот как Антон захотел пошутить над ними, а более над последним, к которому чувствовал отвращение.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу