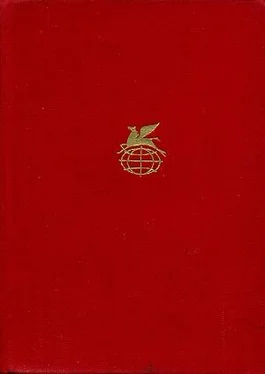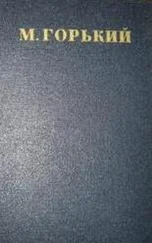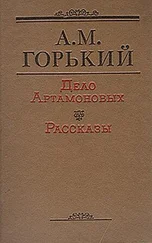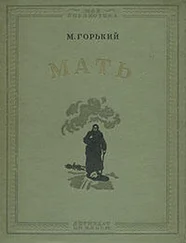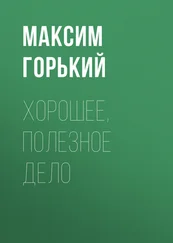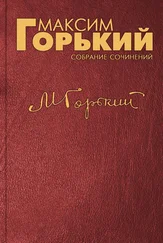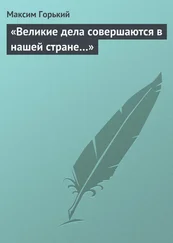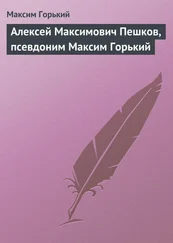Ставя в романе «Мать» проблему подлинного и мнимого гуманизма, М. Горький не только опровергал призывы к непротивлению и всепрощению, но и разоблачал попытки приписать революции и революционерам отказ от гуманизма. В то время как буржуазные литераторы разных течений и оттенков, от черносотенного до анархистского, изощрялись в придумывании характеров и ситуаций, призванных доказать, что революционная борьба разжигает в человеке темные инстинкты и будит в нем зверя, — роман «Мать» показывал эту борьбу как единственное средство очистить человека от всего звериного, животного, узко эгоистического и сделать его Человеком с большой буквы. Роман показывал, что если революционная борьба приобретает порой суровые формы, то виноваты в этом те, кто идет на все, на любое насилие, на любые преступления — лишь бы остановить ход истории.
Через много лет М. Горький писал в очерке «В. И. Ленин» (перефразируя чеканные некрасовские строки: «То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть»): «Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея ненавидеть, невозможно искренно любить. Уже только эта одна, в корне искажающая человека, необходимость раздвоения души, неизбежность любви сквозь ненависть осуждает современные условия жизни на разрушение». В чем же сущность этих «условий жизни» — условий, создаваемых капиталистическим обществом? В чем дьявольская «искусность» их устройства, в корне искажающая человека? М. Горький отвечал на эти вопросы во многих своих произведениях, но, возможно, наиболее глубоко — в романе «Дело Артамоновых».
* * *
Обращаясь к «Делу Артамоновых», мы попадаем в совершенно иной мир образов, иной и по содержанию и по форме. Прежде всего бросается в глаза своеобразие стиля этого произведения, всей его художественной ткани. Задуманный в начале века, роман был написан в 1924–1925 годах, после того как М. Горький, готовя в 1922–1923 годах новое собрание своих сочинений, подверг существенной стилевой правке почти всю свою прежнюю прозу. Правка эта имела характер определенной системы, применявшейся настолько последовательно, что есть основание говорить о художественном перевооружении писателя.
Одной из важных особенностей этой системы было сокращение элементов романтического стиля в ранних произведениях и в некоторых более поздних, например, в романе «Мать». Стиль «Дела Артамоновых» — первого эпического полотна, созданного М. Горьким после отмеченного «перевооружения», — отличается исключительной плотностью, предметностью, «вещностью» всего образного строя, такой отобранностью художественных средств, при которой стремление к пластичности, к физической ощутимости всего изображаемого заменяет праздничную многокрасочность горьковской ранней прозы и характерное для нее подчеркнутое вмешательство авторского «я» в повествование.
Из этого совсем не следует, что в 20-е годы стиль М. Горького пережил некое «опрощение». Нет, он стал в известном отношении еще более сложным, — мы увидим, какие развернутые и разветвленные метафоры используются в «Деле Артамоновых» для разгадки «тайного тайных» героев романа. И было бы неверно думать, что из этого произведения совсем изгнана романтика: она проявляется здесь если не в стиле, то в самом «видении» действительности, в «эстетических отношениях» к ней — в ясно осознанной и воплощенной художником перспективе движения действительности вперед, к социалистическому «завтра». Но художник дал почувствовать эту перспективу не путем непосредственного патетического ее утверждения, а путем углубления своего историзма, который приобрел у него в советские годы особенную конкретность.
Историческая «хроника», хотя и обозначенная в «Деле Артамоновых» отдельными резкими штрихами, еще очень далекими от развернутого «хроникального» плана «Жизни Клима Самгина», играет уже важную роль во всем движении повествования. А. В. Луначарский с полным правом говорил о «скрытой сатире» и об элементах «скрытого панегирика» в романе «Жизнь Клима Самгина». В «Деле Артамоновых» гораздо менее существенны сатирические элементы (они ощутимы лишь в характеристике «дремовцев», — вспомним, что придуманный М. Горьким уездный город Дремов расположен вблизи им же придуманного губернского Воргорода, того самого Воргорода, который упоминался в повести «Городок Окуров»: Дремов в одной губернии с Окуровым!). Но скрытая патетика пронизывает весь образный строй «Дела Артамоновых»: речь в романе идет не просто о судьбах отдельных людей или даже отдельных классов, а о судьбе человечества, о том, куда движется мир.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу